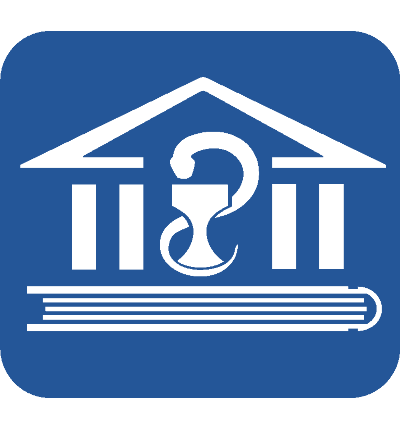
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Деятельность медиков в условиях военных конфликтов постсоветского пространства в 1990-е гг. в освещении «Медицинской газеты»
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия
Для корреспонденции: Денис Васильевич Тумаков
ул. Революционная, д. 5, г. Ярославль, 150000, Россия; ur.xednay@vokamutsined
Одним из наиболее трагических последствий распада Советского Союза в 1991 г. являлось дальнейшее обострение межнациональных отношений, рост национального и религиозного радикализма в молодых государствах СНГ. В результате пресловутые «горячие точки» переросли в полномасштабные военные действия, жертвами которых, как полагал американский политолог и экономист Д. Тризман, стали от 63 до 98 тысяч недавних советских граждан [1]. Наиболее кровопролитными из них были войны в Нагорном Карабахе, Таджикистане и Абхазии, заметно меньший масштаб жертв приобрели противостояние в Южной Осетии и Приднестровье. Эти цифры не учитывают погибших во время многочисленных конфликтов на территории российского Северного Кавказа в 1990–2000‑е гг. Несмотря на сложное социально‑экономическое положение, Россия в начале и середине 1990‑х гг. не осталась в стороне от конфликтов в республиках бывшего СССР, а публично изъявляла готовность взять на себя ответственность за их урегулирование. Так, первый президент страны Б. Н. Ельцин 28 февраля 1993 г. заявил, что «все ответственные международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, должны предоставить России особые полномочия гаранта мира и стабильности на территории бывшего Союза» [2]. Заметим также, что причины, ход и последствия военных конфликтов на постсоветском пространстве, как по отдельности, так и в совокупности, уже неоднократно становились предметом изучения отечественных и зарубежных авторов, но все эти исследователи практически не уделяли внимания роли медиков в урегулировании и преодолении трагических последствий этих войн. Хотя бы отчасти восполнить существующий пробел призвана данная статья, преимущественно основанная на выходивших в начале 1990‑х гг. публикациях независимого международного периодического издания «Медицинская газета».
Из его материалов следует, что деятельность медицинских работников в «горячих точках» бывшего СССР была крайне опасной. Так, весной 1992 г. столичная «Медицинская газета» в одной из заметок упомянула факт расстрела неизвестными преступниками машины «скорой помощи» на автодороге Ташлы — Григориополь в Приднестровье. В результате данной вылазки погибла акушерка, также были ранены водитель и два пассажира, которые позднее были прооперированы и остались в живых [3]. Издание особо отмечало, что нападавшие видели, в кого стреляют [3]. Очевидно, что данное преступление было не единственным даже за время относительно краткого по времени вооруженного конфликта в Приднестровье.
В другой заметке «Медицинской газеты» за 1992 год упоминался факт убийства медсестры в городе Бендеры от выстрела неизвестного снайпера [4], а специальный корреспондент того же издания Р. Панюшин лично наблюдал расстрел машины «скорой помощи» из Кишинева приднестровскими гвардейцами за отказ остановиться. Лишь по счастливой случайности не было жертв, но был легко ранен водитель [5]. В свою очередь, во время гражданской войны в Таджикистане 1992–1997 гг. обстрелу из гранатомета подвергся автобус, доставивший на работу врачей и медсестер Душанбинского госпиталя. Тяжелое ранение получила и впоследствии скончалась одна из работниц [6]. Военнослужащие Хорогского пограничного отряда в интервью «Медицинской газете» тоже приводили факты обстрелов с афганской территории автотранспорта с символикой Красного Креста, что являлось грубейшим нарушением норм международного права, или ведении огня по врачам и фельдшерам со стороны боевиков таджикской оппозиции непосредственно на поле боя [7].
Относительно малую в процентном отношении, но значимую с фактологической точки зрения долю публикаций «Медицинской газеты» составляли яркие фронтовые репортажи из таких крупных военных конфликтов постсоветского пространства, как Приднестровье или Таджикистан. Обычно они выходили вскоре после завершения широкомасштабных боевых действий, в период установления хрупкого перемирия между противоборствующими сторонами. Первый репортаж такого рода касался положения в Тирасполе и Бендерах спустя месяц после неудачной попытки Молдовы решить спор в Приднестровье военным путем и был опубликован газетой летом 1992 г. Как писал специальный корреспондент издания Р. Ю. Панюшин, столица непризнанной ПМР (Приднестровская Молдавская республика) выглядела как «тихий, цветущий город», где о недавней войне напоминали большое количество вооруженных бойцов, наступающий по вечерам комендантский час, светомаскировка по ночам, «отдаленный рокот канонады» и ежедневно поступавшие в военный госпиталь и республиканскую больницу («лечгородок») в Тирасполе новые раненые с горячих направлений — из Бендер, Рыбницы, Григориополя или Дубоссар [5].
Как вспоминали непосредственные очевидцы, в ночь на 20 июня 1992 г., т. е. после начала штурма Бендер молдавскими силами, военный госпиталь и лечгородок работали «в режиме стихийного бедствия»: только в первое из упомянутых лечебных учреждений практически единовременно поступили свыше 20 человек, получивших огнестрельные или осколочные ранения, ожоги и контузии [5]. Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Б. Ф. Московчук также утверждал, что бригады хирургов в условиях нехватки перевязочного и шовного материала, а также места для размещения всех раненых «сутками не выходили из операционных», отдыхая не более 2–3 ч в день [5]. Носилки с ранеными в те дни медикам приходилось размещать на полу.
Аналогичным образом ситуация развивалась и в лечгородке, многие из работников которого на уик‑энд уехали на отдых, после чего фактически оказались за линией фронта и были вынуждены добираться до Тирасполя через территорию Украины. Корреспондент вскользь заметил, что штурм Бендер словно расколол врачей республиканской больницы, поскольку некоторые из них предпочли покинуть город и не вернулись к исполнению обязанностей. Их имена и фамилии журналист Р. Ю. Панюшин по этическим соображениям не стал упоминать [5].
Из данной публикации «Медицинской газеты» следовало, что летом 1992 г. в Приднестровье шла настоящая полномасштабная война. В больничный морг только за первые двое суток поступило свыше 150 тел погибших в ходе ожесточенных боев за Бендеры, в то время как он был рассчитан только лишь на 5 мест. В условиях летней жаркой погоды остро встал вопрос о сохранности трупов, которые, как писал позднее корреспондент «Медицинской газеты», «страшным ковром устилали весь дворик патологоанатомического отделения». Тем не менее заведующему республиканским отделом здравоохранения А. Семко удалось найти 3 рефрижератора и решить данную проблему [5].
Еще одной специфической проблемой, характерной для военного времени, стали вылазки неизвестных снайперов. Пуля одного из них попала в операционную военного госпиталя в Тирасполе непосредственно во время работы хирургов, что в дальнейшем вынудило персонал прибегать к ночной светомаскировке [5].
Еще более серьезными оказались разрушения в городе Бендеры, летом 1992 г. ставшем эпицентром военного противостояния формирований Республики Молдова и непризнанной ПМР. Попавший туда вместе с журналистами из США, Канады, Нидерландов и Чехословакии корреспондент «Медицинской газеты» Р. Ю. Панюшин весьма подробно сообщал читателям и подписчикам о разрушении нового здания местного роддома, считавшегося одним из лучших в СССР. При обстреле города была разрушена уникальная операционная с импортным оборудованием, сгорела автоклавная, а сейф с документами сотрудников и аппарат УЗИ производства японской фирмы Toshiba с большим трудом удалось спасти [5]. В дальнейшем, после начала перемирия в регионе, врачи ежедневно продолжали ездить в развалины роддома с целью спасения оставшихся медикаментов, инструментария и уцелевшего оборудования, для чего им требовалось получение регулярного согласия обеих сторон приднестровского конфликта — как казаков, так и молдавских полицейских [5].
В публикации Р. Панюшина cодержится тяжелое с точки зрения санитарии и гигиены описание положения ПМР вскоре после завершения активной фазы противостояния. Вице‑президент самопровозглашенной республики А. М. Караман, в недавнем прошлом врач‑невропатолог и травматолог, в интервью журналисту «Медицинской газеты» охарактеризовал последствия вооруженного противостояния с Молдавией как «просто катастрофические, сравнимые разве что с первыми послевоенными годами» для СССР. К ним были отнесены не только 150 тысяч беженцев из Приднестровья, но и разрушение коллекторов, газопроводов, системы канализации в Бендерах и Дубоссарах, резкое ухудшение качества воды в Днестре и, как следствие этого, запрет на ее использование со стороны властей [5]. Особо трагичное положение сложилось в те дни на Кошицком плацдарме, где располагался дом‑интернат для психохроников: с началом боевых действий туда было прекращено поступление питьевой воды, в результате чего больные были вынуждены пить воду из пожарного водоема. Летом 1992 г. по этой причине в районе были зарегистрированы 69 случаев брюшного тифа [5].
Учитывая все вышеизложенное, неудивительно, что специальный корреспондент Р. Ю. Панюшин задавался риторическими вопросами о понимании медиками «изначальной преступности любой войны» и масштабов трагедии гражданского населения в зонах конфликтов [5]. Фактически его статья призывала россиян помочь пострадавшему региону. Его призыв был услышан, и вскоре небольшие заметки «Медицинской газеты» лаконично проинформировали общественность о серьезной гуманитарной помощи гражданскому населению Приднестровья со стороны России, переживавшей в тот исторический период острый социально‑экономический и политический кризис. Ряд подобных фактов издание приводило летом 1992 г., после прекращения активных боевых действий в регионе. В частности, газета сообщала об отправке из Санкт‑Петербурга в Приднестровье грузовика со 100 тысячами метров марли и медикаментами от горожан. В данном случае инициатором выступил скандально известный петербургский предприниматель и политик, председатель АО «Гарант» И. М. Баскин. У Гостиного двора на Невском проспекте, в историческом центре Северной столицы, был создан пункт сбора медицинской помощи для «горячей точки», причем, несмотря на серьезные экономические трудности, очередь из желавших оказать помощь пострадавшему от военных действий Приднестровью горожан не иссякала [8].
Не меньшую активность в эти месяцы проявляла и Москва. Начальник отдела медицинского обеспечения спасательной службы Красного Креста России А. Кашлев в интервью государственному информационному агентству ИТАР‑ТАСС сообщил о прибытии в столицу из закрытого города Арзамас‑16 (ныне — Саров Нижегородской области) машины с 350 кг медикаментов и перевязочных средств на общую сумму 80 тысяч рублей. Они были закуплены общественными организациями на средства городских предприятий или добровольные пожертвования граждан [9]. Сами лечебно‑профилактические учреждения Москвы тоже направляли в городской штаб Красного Креста медикаменты и перевязочные материалы. Наиболее солидным оказался вклад больницы Святого Владимира (ранее — городской клинической № 2 имени И. В. Русакова). Более того, поскольку приднестровские госпитали после боев за Бендеры оказались переполнены ранеными и больными, работая в практически фронтовых условиях нехватки медицинского персонала, примерно в то же время Главное медицинское управление Москвы начало формировать отряды медиков для работы в самопровозглашенной республике сроком на три месяца. Главным мотивационным моментом в данном случае, как заметил корреспондент «Медицинской газеты», выступила трехкратная заработная плата, средства на выплату которой выделил из столичного бюджета лично мэр Москвы Ю. М. Лужков (1936–2019 гг.). По данным все того же издания, в волонтерах не было недостатка [4].
В следующем году «Медицинская газета» продолжила освещать профессиональную деятельность российских медиков в конфликтах постсоветского пространства и опубликовала большой репортаж из охваченной кровопролитной гражданской войной Республики Таджикистан (РТ). Специальный корреспондент издания Ф. Смирнов прибыл в «горячую точку» бывшей советской Средней Азии в феврале 1993 г. в составе группы журналистов из России, США, Японии, Китая, Германии и других стран мира. Инициатором данной поездки выступил лично Председатель Верховного Совета республики Э. Ш. Рахмонов (с 1994 г. по настоящее время — президент Республики Таджикистан, с 2007 г. сменил имя на Э. Рахмон), поэтому в вышедшей позднее публикации «Медицинской газеты» отчетливо видны следы информационного противостояния официального Душанбе и сил Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), а ряд оценок происходивших в республике непростых событий носили откровенно политический и, в силу этого, односторонний характер [10].
Так, к примеру, корреспондент Смирнов утверждал, что большая часть коренного населения республики возлагает основную вину за развязывание гражданской войны в Таджикистане на лидеров исламской оппозиции, так как они «посеяли в сердцах людей семена ненависти, которые дали ядовитые всходы» [10]. По мнению журналиста, ссылавшегося на информацию от местных спецслужб, таджикские оппозиционеры воспользовались сложившимся издавна взаимным недоверием жителей различных районов республики и столкнули тех между собой. Они стремились создать так называемые исламские больницы, для чего вытесняли из медицинских учреждений тех руководителей и врачей, что не разделяли их религиозно‑политических убеждений или относились к этническим меньшинствам республики. Например, в совхозе имени XXV партсъезда Курган‑Тюбинской области 23 врача‑таджика организовали забастовку, длившуюся около трех недель и завершившуюся увольнением местного главного врача — опытного специалиста, узбека по национальности [10]. Осенью 1992 г. вооруженные оппозиционеры похитили главного врача одной из районных поликлиник той же области, его дальнейшая судьба на момент выхода статьи Ф. Смирнова оставалась неизвестной [10].
Деструктивность действий исламской оппозиции журналист «Медицинской газеты» видел и в экономике. Например, совхоз «Туркменистан», созданный в советский период в полупустыне и являвшийся в то время одним из крупнейших в республике, был фактически разрушен: из более чем 10 тысяч работников остались единицы, были разрушены практически все жилые дома, а урожай хлопка 1992 г. так и не был убран. Совхоз был превращен в базу формирований оппозиции, которая блокировала дороги в районе, устраивала многочисленные зверские расправы над неугодными и совершала другие противоправные действия. Упоминания о превращении бывшего Дома культуры совхоза в концлагерь, а бани — в камеру пыток, умерщвлении заключенных паром с сильной концентрацией хлора и расстрелах десятков мирных жителей на территории водоочистных сооружений бывшего совхоза могли вызвать у читателей данной статьи прямые ассоциации с действиями нацистов на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [10].
Журналист задавался риторическим вопросом, можно ли забыть и простить подобные преступления, и в качестве ответа пересказывал судьбу шофера «скорой помощи» из райцентра Куляб С. Шарипова. Представитель вполне мирной профессии был вынужден уйти на военную службу в отряды правительственного Народного фронта и стать водителем бронетранспортера, так как не желал повторения произошедших событий уже в жизни собственных детей.
Другим, уже чисто медицинским последствием гражданской войны в Таджикистане, Ф. Смирнов считал эпидемические вспышки в республике. В конце 1992 г. в ряде районов южной Хатлонской области вспыхнул гелиопропный гепатит — было зарегистрировано до 5 тысяч случаев этого заболевания, в том числе более 70 человек стали его жертвами [10]. Причиной специальный корреспондент «Медицинской газеты» полагал острую нехватку продовольствия на юге Таджикистана вследствие длительной блокады со стороны исламистов. Урожай пшеницы местные крестьяне смогли собрать позднее нормы, поэтому зерно оказалось отравлено ядовитым сорняком — гелиотропом. Пораженными оказались многие колхозы и совхозы юга страны. Изготовленный из неочищенной пшеницы хлеб и привел к вспышке болезни. Весьма примечательно, что сами заболевшие единогласно обвиняли в отравлении зерна боевиков оппозиции. Болезнь, как передавал Смирнов, протекала крайне сложно и мучительно для пациентов: функция печени нарушалась так, что в брюшной полости скапливалось большое количество жидкости, живот раздувался, как воздушный шар [10].
Таджикским властям приходилось размещать больных в местных больницах, амбулаториях, школах, детских садах и гостиницах, а наиболее тяжелые пациенты были направлены в республиканский Институт гастроэнтерологии или в медицинские учреждения города Душанбе. Министр здравоохранения РТ А. Ахмедов и ведущие гастроэнтерологи республики регулярно выезжали в охваченные болезнью районы для оказания помощи местным врачам. Помощь Таджикистану в той трудной ситуации оказывали государства ближнего и дальнего зарубежья, а также представители Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. В частности, врачи из соседнего Узбекистана оборудовали передвижной госпиталь на 50 коек в пораженных эпидемической вспышкой районах [10]. Немаловажной в преодолении болезни была и помощь главного союзника — России. В феврале 1993 г. в Таджикистане побывал лично министр обороны РФ Герой Советского Союза генерал армии П. С. Грачев (1948–2012 гг.), после чего дислоцированные в РТ части и подразделения российской армии безвозмездно передали населению районов, пострадавших от гелиотропного гепатита, до 8 тонн медикаментов [10]. Позднее начальник военного госпиталя в Душанбе А. Гафаров доставил гуманитарную помощь в Пархарскую районную больницу и лично выделил на нужды жителей 5 тысяч рублей. Его примеру последовали подчиненные [10]. Совместными усилиями удалось добиться позитивного результата в борьбе с тяжелым заболеванием.
Немалую часть упомянутого газетного репортажа из «горячей точки» занимал рассказ о работе Республиканской клинической больницы имени А. М. Дьякова (Душанбе) в военных условиях. К началу февраля 1993 г. в ее стенах находились до 80 больных гелиотропным гепатитом, примерно половину из них составляли дети [10]. Со ссылкой на соответствующие отзывы самих пациентов, журналист «Медицинской газеты» весьма похвально отзывался о работе персонала больницы: именно врачи названного лечебного учреждения смогли оказать по‑настоящему квалифицированную помощь заболевшим. Курс лечения включал строгий постельный режим, диету, богатую белками и углеводами, витаминотерапию, гепатопротекторы, мочегонные, дезинтоксикационные, при необходимости — гормональные препараты. След продолжавшейся гражданской войны в республике ощущался в том, что, помимо больных гелиотропным гепатитом, в больнице находились также 30–40 пациентов с огнестрельными ранениями — жертв недавних ночных стычек [10]. Смирнов особо подчеркивал, что в ноябре‑декабре 1992 г. обстановка была еще хуже: все лечебные учреждения Душанбе были переполнены ранеными, а работа скорой помощи в городе была практически парализована из‑за отсутствия бензина и страха самих врачей перед вооруженными бандами [10]. Терапевт республиканской больницы А. Тилоев в интервью «Медицинской газете» отметил также широкое распространение таких заболеваний, как пневмония, бронхит, язвенная болезнь, белковое голодание и грипп. Этот факт он также объяснял недавними тяжелыми боями в Душанбе и, как следствие этого, наличием многочисленных беженцев, снижением иммунитета у граждан из‑за сильного стресса, нехваткой продовольствия и медикаментов, в частности, антибиотиков. Тилоев прямо заявил, что «пока спасает только гуманитарная помощь» [10], в том числе от России.
Немаловажное внимание печать тех лет уделяла высокой квалификации и профессиональным успехам российских медиков в «горячих точках» постсоветского пространства. Например, в репортаже «Медицинской газеты» из Таджикистана содержался подробный рассказ о деятельности военного врача капитана О. Крысенко — выпускника военно‑медицинского факультета Томского медицинского университета, который нес службу в десантно‑штурмовой маневренной группе (ДШМГ) российских пограничных войск войск в этой горной республике и в течение двух лет был награжден медалями «За отвагу», «За службу в Таджикистане» и «За отличие в воинской службе» I степени. Служба О. Крысенко в условиях боевых действий в Средней Азии была крайне сложной. В некоторых случаях, как отмечал собственный корреспондент «Медицинской газеты» А. Л. Папырин, он и другие бойцы ДШМГ попадали в окружение боевиков таджикской оппозиции. Даже обычный боевой выход пограничников в высокогорье в полном боевом снаряжении часто приводил к необходимости оказывать первую медицинскую помощь при растяжениях, гематомах или острых гастроэнтероколитах. В этом врач Крысенко также преуспел [6].
Один из эпизодов боевой деятельности офицера‑медика заслужил пристального внимания в упомянутой публикации «МГ». События на таджикско‑афганской границе именовались в издании «войной», причем «не только вооруженной, открытой, но и минной, террористической». Публикация была призвана фактически доказать данный тезис [6]. Во время боевой операции в Язгулемском ущелье в сентябре 1994 г. Крысенко сопровождал ДШГ, обнаружившую в пещере близ развалин пограничного кишлака Сафи‑Санг убежище противника. Основные силы таджикских и афганских исламистов отступили, трофеями российских военных стали брошенное снаряжение, боеприпасы, а один раненый боевик был задержан. Однако в результате подрыва фугаса погибли 6 пограничников, а еще трое получили тяжелые ранения [11]. Среди раненых оказался лейтенант Ефремов, которому военврач Крысенко «очень умело, грамотно оказал первую помощь»: «обработал, забинтовал множественные ранения левой половины лица, шеи, конечностей, грудной клетки». Позднее раненый офицер на вертолете был доставлен в госпиталь российских погранвойск в Душанбе, где его жизнь спасли военные хирурги из Центрального госпиталя в Голицыне [6].
Медицинские специалисты, служившие в 1990‑е гг. в составе Группы Федеральной пограничной службы в Таджикистане, сами по себе фактически являлись положительной агитацией России в «горячей точке» бывшей советской Средней Азии. Как замечал собственный корреспондент «Медицинской газеты» А. Л. Папырин, коллектив первого окружного госпиталя российских пограничников в Душанбе оказывал помощь пострадавшим и заболевшим военнослужащим таджикской армии вне зависимости от их регионального происхождения [12]. Отметим, что сделать это было непросто: гражданская война, шедшая в республике в 1992–1997 гг., во многом велась по клановому признаку, а большую часть личного состава пограничных войск по причине его хронического недокомплекта составляли именно местные жители. Прямым отличием от действий местных исламистов стало стремление российских военных врачей помогать абсолютно всем пациентам, подчас даже противнику — боевикам ОТО (объединенная таджикская оппозиция).
Квалифицированную медицинскую помощь с их стороны получали даже нарушители таджикско‑афганской государственной границы. Одного такого пациента — афганца, получившего огнестрельное ранение при попытке переправы через реку Пяндж, журналист «Медицинской газеты» обнаружил в медпункте Хорогского пограничного отряда [7]. Между тем, как сообщали российские журналисты, противник не проявлял аналогичных рыцарских качеств. На всей территории Таджикистана служба военных медиков в те годы была крайне небезопасной. Как сообщал заведующий отделением травматологической хирургии военного госпиталя в Душанбе Д. Конев, во время одной из обязательных месячных командировок на пограничную реку Пяндж российские врачи оказались в окружении боевиков ОТО. При этом товарищ Конева, врач Центральной районной больницы, был убит местными вооруженными оппозиционерами «только за то, что он оказывал помощь всем», а не только сторонникам официального правительства республики [12]. Весьма примечательным можно считать и тот факт, что весной 1995 г., во время полномасштабных боевых действий на пограничном посту «Дашти‑Язгулем», боевики ОТО захватили грузовик с тяжелоранеными военными, после чего избили и едва не расстреляли по обвинению в предательстве хирурга госпиталя в Хороге М. Абдуллобекова — таджика по национальности. Избежать гибели врач сумел лишь потому, что за него вступился один из боевиков, чью жену Абдуллобеков ранее успешно прооперировал [7].
Освещая вооруженные конфликты 1990‑х гг. на постсоветском пространстве, «Медицинская газета» акцентировала внимание на целом ряде аспектов. Во‑первых, в отличие от публичных высказываний политиков, издание скорее предпочитало апеллировать не к государственным интересам России, а к общегуманистическим моментам. Например, описывая расстрел грузинскими боевиками колонны осетинских беженцев на Зарской дороге 20 мая 1992 г., газета отметила, что «… выстрелы на Военно‑Грузинской дороге — это выстрелы в нас» [13]. Чуть позже редакция «Медицинской газеты» особо отметила факт оказания ею финансовой и организационной помощи инженеру из Тирасполя Л. Голубь в приобретении лекарств для больного сына в московских аптеках. Аргументация журналистов была предельно проста и человечна: «ведь еще совсем недавно все мы жили мирно и дружно. На всех хватало и территории, и свободы». Заметка завершалась пожеланием женщине и ее сыну выйти живыми и невредимыми из кризиса в Приднестровье [14]. После возвращения из Таджикистана журналист Ф. Смирнов также призывал российских читателей к состраданию по отношению к попавшим в беду жителям этой республики и других «горячих точек» СНГ [10].
Во‑вторых, газета стремилась стать трибуной, призывавшей всех медиков постсоветского пространства к активным действиям, под которыми понималось объединение усилий в антивоенной борьбе. В частности, на первой странице первомайского номера «Медицинской газеты» за 1992 г. была опубликована телеграмма с характерным заголовком «Боль щемит наши сердца» за подписью министра здравоохранения Узбекистана Ш. Каримова и ряда известных узбекских врачей, призывавших медицинскую общественность стран СНГ помочь политикам в урегулировании конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и других регионах бывшего СССР. Подписанты требовали «остановить кровопролитие и решать проблемы цивилизованными мирными путями», для чего предлагали «собраться в одной из республик, обсудить ситуацию и выступить единым фронтом против насилия и кровопролития» [15].
Спустя примерно полгода, после вспышки насилия в Пригородном районе Северной Осетии [16], с призывом о создании движения врачей против национальной розни выступил уже министр здравоохранения Кабардино‑Балкарии М. Л. Беров [17]. Редакция «Медицинской газеты» полностью поддержала его призыв, заявив, что цель медицинской профессии — «не разжигать, а гасить пламя возникших пожаров» [17]. Ту же мысль высказал и специальный корреспондент издания в Нальчике Ю. Блиев [18]. Словно в подтверждение их слов в газетном номере от 20 ноября 1992 г. были опубликованы фотоматериалы корреспондента агентства ИТАР‑ТАСС А. Косинца от 8 ноября того же года, запечатлевшие военные будни Северного Кавказа: десятки трупов ингушских жителей Пригородного района на площади во временной столице Ингушетии Назрани, так и обед для беженцев у полевой кухни российской воинской части во Владикавказе. Спустя еще несколько месяцев в «Медицинской газете» был опубликован призыв оргкомитета Международного движения «Врачи против насилия, межнациональных конфликтов и гражданских войн» от 24 марта 1993 г. к президентам, парламентам, правительствам всех стран постсоветского пространства, особенно РФ, «найти дорогу к согласию и ненасильственному разрешению противоречий» [19]. Впоследствии данная организация выразила миролюбивый настрой и во время военной кампании 1994–1996 гг. в Чечне [20]. Таким образом, в публикациях «Медицинской газеты», посвященных вооруженным конфликтам постсоветского пространства 1990‑х гг., прослеживается четко выраженный миролюбивый, гуманистический настрой. Издание позиционировало врачей как истинных миротворцев, способных остановить насилие между бывшими соотечественниками.