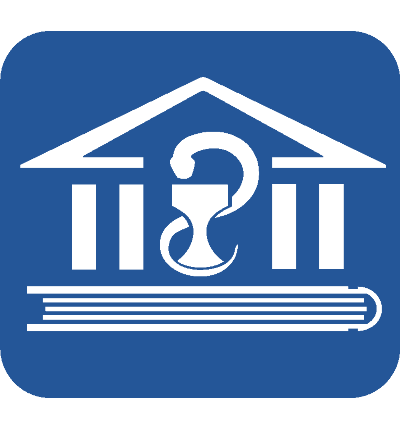
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Православная этика Владимира Соловьева и мистическая этика Данте Алигьери
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия
Для корреспонденции: Ольга Валерьевна Козлова
ул. Кедрова, д.8, кв. 10, Ярославль, 150000, Россия; ur.liam@7991.avolzokaglo
В современных условиях представляется важным сопоставить мистическую этику Данте — представителя европейской общественной мысли и этическую концепцию Владимира Сергеевича Соловьева — крупнейшего представителя русской религиозной философии. Важно обратить внимание не только на оригинальные стороны религиозной этики в России, но и более глубоко понять особенности и традиции русской культуры и характер ее взаимодействия с культурой народов других стран и других эпох. «Рефлексия — это присвоение нашего усилия существовать и нашего желания быть через произведения, свидетельствующие об этом усилии и об этом желании» [1], — справедливо отмечал Поль Рикер. В этой связи сопоставление столь несхожих мыслителей должно быть апофеозом непреходящих этических ценностей.
Данте Алигьери ввел в систему средневекового схоластического мышления гуманистическую традицию. Представления о греховности природного бытия были для него лишь отправной точкой размышлений. Абстрактные формулы оправдания Добра, обоснование трансцендентной сущности Божественного начала, предпринятые представителями средневековой философии, рассматривались Данте как основания для рассуждений о подлинных добродетелях человека. Р. Гвардини отмечает, что Данте выражает свои мысли не на основе точных теорий, а символически; им движет стремление формировать образы, его мировоззрение конструируется умозрительно [2]. Философия Данте Алигьери есть вызов средневековой эпохе. В удовлетворении своих потребностей человек, в изображении Данте, стремится освободить свои творческие силы. Поэтому, можно сказать, что Данте выходит за пределы своей эпохи, а его творчество становится прологом гуманистической этики эпохи Возрождения. «Данте с глубочайшей серьезностью и без остатка предан Средневековью, но при этом он стоит как раз на границе этого Средневековья, и часть его человеческого существования уже за его пределами» [2], — пишет Р. Гвардини.
Определение нравственной основы человека В. С. Соловьев раскрывает через разработку всеобъемлющей религиозно-философской концепции свободы. Процесс взаимопревращения несвободы в свободу предполагает деятельность человеческого разума, в котором содержатся запасы человеческих знаний и посредством которого реализуется этический процесс. Тем самым Соловьев полагает условия движения познания, а затем и деятельности от несвободы к свободе. При этом этический процесс движения человека от осмысления природного бытия к рассмотрению оснований Божественного бытия начинается и у Данте, и у Соловьева с мистического чувства. Поэтому попытка найти точки соприкосновения идей Данте Алигьери и Владимира Соловьева, несомненно, имеет большое значение.
В. С. Соловьев и Данте Алигьери, каждый по-своему, аккумулировал достижения в сфере духовной культуры своей эпохи. Соловьев произвел значительный резонанс в рамках своей эпохи, способствуя, в частности, формированию в сфере этики новых пластов и направлений философского исследования. Нашему поколению предстоит заново искать ориентиры в истории философской мысли прошлых эпох. Исследователи находят свою дорогу и к творчеству Данте Алигьери, и к творчеству В. С. Соловьева. «Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим» [3], — писал С. Н. Булгаков.
Несмотря на все разнообразие этических взглядов В. С. Соловьева и Данте Алигьери, их внимание к человеку, их глубочайший анализ земного и Божественного бытия объединяет этих мыслителей и позволяет найти ориентиры к созданию целостного философского мировоззрения. В этой связи возникает вопрос, поставленный еще С. Н. Булгаковым: «Возможно ли мировоззрение, стоя на почве которого, можно было бы быть и материалистом, т. е. мыслить себя в реальном единстве с природой и человеческим родом, но, вместе с тем, утверждать и самобытность человеческого духа с его запросами, с его постулатами о сверхприродном, Божественном бытии, освещающем и осмысливающем собой природную жизнь?» [3]. Именно Булгаков подчеркивает универсальность этических концепций. Положительное всеединство Соловьева, Булгаков называет организмом живых идей. По мнению С. Н. Булгакова, чтобы найти аналогичную Соловьеву комбинацию дарований в одном лице, исследователям придется в истории мысли отступать глубоко назад. Это мировоззрение, о котором писал Булгаков, проявляется в зачаточном состоянии у Данте Алигьери и достигает целостности у Владимира Сергеевича Соловьева. «Ведь именно В. С. Соловьев — тот мыслитель, чья философия собрала в единый пучок русскую мысль и дала направление ее развитию вперед вот уже на второе столетие» [4], — совершенно точно отмечает М. В. Максимов.
В. С. Соловьев исходит из положения о том, что первоначально человек имеет три основных элемента: во-первых, природу, т. е. данную наличную действительность; во-вторых, Божественное начало как искомую цель и содержание, открывающееся постепенно; в-третьих, личность, субъект жизни и сознания. По мнению мыслителя, именно личность человека, воспринимая Божественное начало, воссоединяет с ним природу, превращая ее из случайного существования в должное бытие.
Согласно концепции философа, само понятие откровения предполагает, что открывающееся Божественное существо первоначально скрыто, т. е. не дано как таковое. Мыслитель утверждает, что Бог для человека существует и действует, но не в своей собственной определенности, а в своем другом, т. е. в природе: «Божественное начало, как безусловное и, следовательно, всеобъемлющее, обнимает и природу (но не обнимается ею, как большее покрывает меньшее, но не наоборот)» [5]. В. С. Соловьев объявляет такого рода представление первой ступенью религиозного развития, на которой Божественное начало скрыто за миром природных явлений, и прямым предметом религиозного сознания являются лишь служебные существа и силы, непосредственно действующие в природе и определяющие материальную жизнь и судьбу человека. Мыслитель называет эту ступень естественным, непосредственным откровением, или политеизмом.
Данте Алигьери в Божественной комедии пишет о завуалированности Божественного начала в природной жизни:
«Чем совершенней наше существо,
Тем более доступно для блаженства
И горестей. Далек от совершенства
Их жалкий род, но жаждет он его
И в помыслах своих стремится к благу» [6].
Созвучие мыслей Данте с идеями Соловьева здесь можно увидеть в том смысле, что человек в младенчестве определен лишь природными инстинктами, но, взрослея, он начинает тянуться к благу, видя совершенство в Боге. С другой стороны, у Данте, как и у Платона, пределом восхождения является идея блага как высшая идея. По мнению Данте, когда кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума, устремляется к сущности предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не достигнет сущности блага.
На следующей, второй, ступени религиозного развития, согласно концепции Соловьева, Божественное начало открывается в своем различии и противоположности с природой как ее отрицание, или ничто — отсутствие природного бытия, отрицательная свобода от него.
Отрицательная свобода, в понимании В. С. Соловьева, должна быть лишена всякой положительной особенности и индивидуальности: «такая отрицательная свобода есть свобода пустоты, свобода нищего» [5]. Поэтому эту ступень, отличающуюся по существу пессимистическим и аскетическим характером, мыслитель называет отрицательным откровением. Эту отрицательную свободу Данте мистически показывает в сцене потери человеком своего облика:
«Втянулись уши в голову и лик
В змеиное вытягивался рыло.
Тут у него раздвоился язык
А у змеи раздвоенное жало
Ее срослось. Тогда как надлежало,
Дух, зверем став, со свистом убежал,
А змей переродившийся сказал,
Плюя вослед: — “Исполнилась угроза!
Подобно мне, пусть ползает Буозо”» [6].
Именно олицетворение отрицательной свободы Данте, как и многие русские философы, видел в фигуре змея, который, согласно библейскому сюжету, заставил Еву и Адама съесть яблоко с дерева познания. Появившаяся в этой связи свобода воспротивиться Богу, и есть отрицание божественной воли — отрицательная свобода. Перерождение души грешника в змея — это метафора, позволяющая понять смысл грехопадения. Здесь мы видим, что символически мистическое понимание человеческого существования и кара за грехи выступают в роли вечной истины в Божественной комедии Данте. Важно отметить, что ярко выраженные чувства противоборства человека, оказавшегося в аду, «проистекают не от космических сил, не от безжалостных и сверхчеловеческих битв между силами Бога и силами Сатаны. Скорее они выражаются на языке взаимоотношений» [7], — писал Б. Килборн. Благодаря этому материя, плоть, судьба человека и восприятие реальности обретают новую взаимосвязь. Читатель начинает верить в реальность тех картин и образов, которые показывает Данте в своем гениальном произведении. Анализируя библейский сюжет о грехопадении, американский психоаналитик Б. Килборн показывает, что происходил смысловой сдвиг понятия «человеческих оплошностей» к понятию наказуемого греха, он рассматривал фигуру змея как проявление Сатаны.
В этой связи возникают следующие вопросы: какая реальность более значима? Реальность земной жизни или реальность пребывания души после смерти в аду? Можно ли здесь прибегнуть к помощи здравого смысла? В этом плане представляется актуальным обратиться к концепциям К. Г. Юнга и Г. Башляра. К. Г. Юнг в работе «Трансцендентальная функция» отмечал, что сама рациональность здравого смысла может быть самым худшим из предубеждений, поскольку мы называем результатом то, что нам таковым кажется [8]. Не взирая на здравый смысл, читатель оказывается в новой реальности образов, нарисованных Данте. Здесь речь идет «о реализме как бы второго уровня, противостоящем обычному пониманию действительности, находящемуся в конфликте с непосредственным» [9], — очень точно указывает Г. Башляр в своей книге «Новый научный дух». Именно мистическое чувство, дающее толчок этическому процессу, Г. Башляр и называет реализмом второго уровня. Показывая муки грешников, Данте идет путем аллегории, пытается показать источник размышлений об этических ценностях человека. Отсюда мы видим, что мысль Данте имеет метафизические основания.
На третьей ступени религиозного развития в концепции Соловьева Божественное начало последовательно открывается в своем собственном содержании, т. е. в том, что оно есть само в себе и для себя. Мыслитель указывает на то, что человек совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все сводятся к противоположности между безусловным и условным, между абсолютной сущностью и преходящим явлением. Поэтому важнейшей целью для философа становится установление статуса человека в общей связи истинно сущего. В этом плане главным для Соловьева является осмысление «в целости божественного существа двоякого единства» [5]. C одной стороны, русский философ рассматривает производящее единство — единство божественного творчества Слова (Логоса). С другой стороны — единство произведенное, осуществленное. Этому второму — осуществленному единству — Соловьев дает мистическое имя «София». Именно произведенное, осуществленное единство, в понимании мыслителя есть начало человечества, или идеальный, этический человек. Следовательно, для того чтобы Бог вечно существовал как Логос и как действующий Бог, необходимо предположить вечное существование реальных элементов, воспринимающих божественное действие, или же предположить существование мира как подлежащего божественному действию, как дающее в себе место божественному единству: «Собственное же, то есть произведенное единство этого мира, — центр мира и вместе с тем окружность Божества и есть человечество» [5].
Данте показывает единство человеческой души и Бога, растворенность живых существ в Божестве. Место Божественной «Софии» Соловьева, у Данте занимает связующая человечество и Бога сущность в виде Божественного закона:
«…Связует воедино
Все в мире сущее божественный закон;
Ему благодаря, Всевышний отражен
В творении Своем. Безгрешные созданья
Здесь видят яркий след могущества Творца,
К кому закон Его влечет их без конца» [6].
Данте мыслит идею человеческого существования исходя из традиционных представлений, а Божественному закону придает новый смысл, который можно считать прологом осмысления Божественного откровения в концепции В. С. Соловьева.
Именно на первой ступени Божественного откровения, согласно концепции В. С. Соловьева, Божественное начало познается только в существах и силах природного мира, сама природа получает Божественное значение, признается чем-то безусловным, самосущим. По мнению философа, в этом — общий смысл натуралистического сознания: здесь человек не удовлетворяется наличной действительностью, ищет другого безусловного, но ищет и думает находить его в сфере природного материального бытия, а поэтому и попадает под власть сил и начал, действующих в природе, впадает в рабство «немощным и скудным стихиям» природного мира. Так как человеческая личность отличает себя от природы, и таким образом оказывается не природным только существом, а чем-то другим и большим природы. Как считает мыслитель, власть природных начал над человеческой личностью не может быть безусловной. Эта власть дается природе самой человеческой личностью: «природа господствует над нами внешним образом лишь потому и столько, поскольку мы ей внутренне подчиняемся» [5]. В этом плане Ф. Нэтеркотт отмечает, что «Соловьев утверждал первичность жизни, подчиняя ей теоретическую мысль» [10].
В. С. Соловьев указывает на то, что в природном бытии каждое существо может быть одним из многих, только частным, а всеединство и абсолютность этого существа выражаются только в стремлении быть этическим существом. Мыслитель утверждает, что именно в человеческой форме каждое существо идеально есть «Всё», так как может всё заключать в своем сознании. Таким образом, по Соловьеву, всеединство, вечно существующее в Божественном начале, перешедшее в чистую потенцию в природном бытии, идеально восстанавливается в человечестве. Поэтому философ указывает на то, что в природе каждое существо является условным и преходящим. И только в Боге, в своем абсолютном начале это существо может быть вечным и безусловным.
В этой связи, мы видим у Данте призыв к преодолению земного существования, которое он определяет как жалкое — аналог условного и преходящего существования человека у Соловьева. А стремление к добру и «свету знанья» можно трактовать как стремление к безусловному бытию. Поэтому в творчестве Данте можно увидеть сплав страстей сердца и мысли, который выступает как соединение субъективного и метафизического:
«Не для того на свет мы рождены,
Чтоб жалкое влачить существованье,
Но до конца за истиной должны
Стремиться мы к добру и к свету знанья!» [6].
Согласно концепции Данте, пока мы имеем тело, мы мертвы, ибо фундаментально мы есть благодаря душе, а душа, пока она в теле, — она, как в могиле, значит, умерщвлена. Смерть тела — это жизнь, ибо душа освобождается от неволи. Тело — корень всех зол, источник нездоровых страстей, неприязни, несогласия, невежества и просто безумия. Положения мыслителя основаны на метафизическом различении души (интеллигибельной сущности) и тела (чувственного существа). Тело человека подвержено грехам, за которые человек должен нести кару. Возникает вопрос: возможно ли человеку когда-либо освободиться от своей грешной сущности и стать этическим существом? Возможным ответом на этот вопрос может служить книга Конрада Лоренца «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества». Лоренц пишет о том, что под давлением соревнования между людьми уже почти забыто все то, что хорошо и полезно для человечества в целом и даже для отдельного человека. Следовательно, по мнению Лоренца, «Подавляющее большинство ныне живущих людей воспринимает как ценность лишь то, что помогает им перегнать своих собратьев в безжалостной конкурентной борьбе. Любое пригодное для этого средство они воображают самостоятельной ценностью» [11]. То есть и для ХХ, и для XXI века характерным было перенесение греховной сущности в разряд ценностей и тем самым создание видимости преодоления греховности человеческой натуры.
Согласно концепции Соловьева, жизнь природы вся основана на борьбе, на исключительном самоутверждении каждого существа, на внутреннем и внешнем отрицании им всех других, следовательно, закон природы есть борьба за существование, и, чем выше и совершеннее организовано существо, тем большее развитие получает этот закон в своем применении. По мнению В. С. Соловьева, природа сама по себе, как только совокупность естественных процессов, есть постоянное движение, постоянный переход от одной формы к другой, постоянное достижение. Значит, и процессы, и состояния природного бытия могут являться целью для воображения до тех пор, пока они не осуществлены. А реализация природного влечения или инстинкта, по Соловьеву, является как необходимое содержание, как нечто удовлетворяющее и представляющее нечто, до тех пор, пока эта реализация не совершилась, пока соответствующий результат не достигнут.
Таким образом, по Соловьеву, природная жизнь, понимаемая как цель, может оказаться и злом, и обманом, иллюзией, так как все содержание, которое человек связывает в своем стремлении с конкретными природными предметами и явлениями, все образы принадлежат ему, его воображению. Возникает вопрос: а имеет ли человечество четкие ориентиры или нормы, согласно которым оно может избежать иллюзий и идти по пути совершенствования и реализации идеи Добра? В этом плане, в концепции Соловьева, идея права и закон имеют лишь опосредованное значение. Б. В. Межуев отметил идею Соловьева о том, что, например, задача права состоит не в том, «чтобы создать Царство Божие на земле, но в том, чтобы мир до времени не обратился в ад» [12]. Значит, человек не получает от внешнего мира что-то такое, чего не имеет, что могло бы удовлетворить и дополнить его существование. Человек придает природе то, чего она не имеет, то, что он получает из самого себя, т. е. этическое начало. «Разоблаченная от того богатого наряда, который дается природе волей и воображением человека, она является только слепой, внешней, чуждой для него силой, силой зла и обмана» [5].
В. С. Соловьев утверждает, что подчинение высшей и слепой силе для человека есть коренной источник страдания; но сознание того, что природа есть зло, обман и страдание, есть тем самым сознание своего собственного превосходства, превосходства человеческой личности над природой. «Если я признаю природу злом, то это только потому, что во мне самом есть сила добра, по отношению к которой природа является злом, если я признаю природу обманом и призраком, то это только потому, что во мне самом есть сила истины, по сравнению с которой природа есть обман. И наконец, чувствовать страдание от природы — не то или другое частное или случайное страдание, а общую тяжесть природного бытия — можно только потому, что есть стремление и способность к тому блаженству или к той полноте бытия, которой не может дать природа» [5].
В. С. Соловьев приходит к выводу о том, что воля человека, обращенная на природу, связывает человека с ней и ведет к злу, обману и страданию. Отсюда следует, что освобождение воли от власти и господства природы есть освобождение собственной природной воли — отречение от нее. Поэтический гений Данте показал созвучие этой идее:
«Когда душа восторга иль тоски
Исполнена — бывают далеки
Все помыслы другие, не тревожит
Ее ничто: раздвоиться не может
У нас душа, и — в заблужденье тот,
Кто две души у смертных признает…
В душе есть две способности: вниманье
И самоуглубление, одна
В себе самой бывает, не вольна,
Другая же — свободна» [6].
Все это означает, что природа обретает свое завершение и конечный смысл только в персональном — в сверхприродном измерении. Относительное и частичное бытие природы проявляется в разумном существе. Поэтому Данте отрицает безличную природу души (ее раздвоенность) как окончательную действительность. Он провозглашает свободное стремление души к этическим ценностям — к Богу. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в концепции Данте существование и бессмертие души осмыслены лишь в том случае, если душа понята как «сверхэмпирическое существо», обитающее в интеллигибельном пространстве.
По Соловьеву, человеческая воля во всех своих актах есть стремление к природному существованию, есть утверждение себя как природного существа, а отречение от этой воли есть отречение от природного существования. Но так как природа первоначально дана как «Всё», так как вне ее для человека не существует ничего в данном состоянии его сознания, то отречение от природного существования, согласно концепции мыслителя, является отречением от всякого существования. Поэтому стремление к освобождению от природы Соловьев объявляет стремлением к самоуничтожению. Исходя из этого, философ гипотетически утверждает, что если природа есть Всё, то Всё, что не является природой, — есть ничто. В этой связи мыслитель считает, что признание природы злом, обманом и страданием отнимает у нее значение безусловного начала. Именно безусловное начало, которое не является природой в сознании человека, может получить только отрицательное определение как отсутствие всякого бытия, как ничто.
В. С. Соловьев считает, что, с одной стороны, религиозное отношение к природе, подчинение ей жизни и сознания человека и обожествление ее привело к религиозному отрицанию природы и всякого бытия, а также — к религиозному нигилизму; с другой стороны, философское обожествление природы в современном сознании, философский натурализм привели к философскому отрицанию всякого бытия, к философскому нигилизму. По мнению философа, для того чтобы человек понял и осуществил это безусловное начало в его собственной действительности, необходимо, чтобы он отделил и противопоставил его стихиям мира. И для того, чтобы понять, что есть безусловное начало, нужно прежде отвергнуть то, что оно не есть. Тогда, по Соловьеву, это безусловное отвержение всяких конечных признаков будет уже отрицательным определением самого безусловного начала. Такое отрицательное определение есть первый шаг к его положительному познанию, заключает Соловьев.
Основываясь на глубоко внутреннем, метафизическом опыте, Данте придает новые смыслы и новую реальность существованию человека:
«…Находятся во власти
Земных понятий помыслы твои;
Где льются света яркие струи
Ты видишь мрак. Пойми, неистощимо
Сокровище: чем более делимо —
Обильней тем становится оно.
Любви и милосердия святыней,
Как солнечным лучом, озарено
Бывает всё…» [6].
Принцип существования земной действительности у Данте основан на радикальном антагонизме. А метафизическое бытие основывается на экстазе, на достижении формы чистого объекта: «Мы достигаем изощренных форм радикализации скрытых качеств и будем бороться с обсценностью1 ее же оружием.
Более истинному, чем истина, мы противопоставим более ложное, чем ложь. Мы не будем противопоставлять прекрасное и безобразное, мы отыщем более безобразное, чем безобразность: чудовищное. Мы не будем противопоставлять явное тайному, мы отыщем более тайное, чем сама тайна: непостижимое» [13], — пишет Ж. Бодрийяр. Движение познания, берущее свое начало в метафизическом бытии — «экстазе», Бодрийяр назвал фатальной стратегией для европейской общественной мысли. Однако философия Данте здесь становиться возможным исключением. Так как подобное движение мысли характерно больше для русской философии и, в частности для В. С. Соловьева.
Соловьев уверен, что действительность безусловного начала как существующего в себе самом, независима от нас. Действительность Бога не может быть выведена из чистого разума, не может быть доказана чисто логически. Согласно концепции мыслителя, необходимость безусловного начала для высших интересов человека, для воли и нравственной деятельности, для разума и истинного знания, для чувства и творчества, делает только вероятным действительное существование Божественного начала. Философ считает, что безусловная уверенность в существовании всего внешнего мира вообще может быть дана также только верой. Таким образом, мы видим, что Соловьев обращает внимание на то, что «… все содержание нашего опыта и нашего знания суть наши собственные состояния и ничего более, то всякое утверждение внешнего бытия, соответствующего этим состояниям, является с логической точки зрения лишь более или менее вероятным заключением; и если, тем не менее, мы безусловно и непосредственно убеждены в существовании внешних существ (других людей, животных и т. д.), то это убеждение не имеет логического характера (так как не может быть логически доказано) и есть, следовательно, не что иное, как вера» [5].
В этой связи философ рассматривает сущность внешнего бытия. По Соловьеву, хотя закон причинности и наводит нас на признание внешнего бытия как причины наших ощущений и представлений и так, как этот закон причинности есть форма нашего же разума, то применение этого закона к внешней реальности может иметь лишь условное значение. Следовательно, закон причинности не может дать безусловного убеждения в существовании внешней действительности. Все доказательства этого существования, сводимые к закону причинности, являются, согласно концепции мыслителя, соображениями вероятности, а не свидетельствами достоверности. Свидетельством достоверности остается только вера, поэтому мыслитель рассуждает о внешней и внутренней реальности: «Что вне нас и независимо от нас что-нибудь существует — этого знать мы не можем, потому что все, что мы знаем (реально), то есть все, что мы испытываем, существует в нас, а не вне нас (как наши ощущения и наши мысли); то же, что не в нас, а в себе самом, то тем самым находится за пределами нашего опыта и, следовательно, нашего действительного знания и может, таким образом, утверждаться лишь перехватывающим за пределы этой нашей действительности актом духа, который и называется верой» [5].
С другой стороны, мыслитель считает, что, если существование внешней действительности утверждается верой, то содержание этой действительности, ее сущность, essentia, дается опытом. Поэтому Соловьев уверен в том, что данные опыта являются сведениями о действительно существующей реальности и таким образом составляют основание объективного знания. В этой связи философ приходит к выводу о том, что для полноты объективного знания необходимо, чтобы отдельные сведения о существующей реальности были связаны между собою, чтобы опыт был организован в цельную систему. Это может быть достигнуто, согласно концепции Соловьева, рациональным мышлением, дающим эмпирическому материалу научную форму. В. С. Соловьев утверждает, что все положения, высказанные относительно внешнего мира, вполне применяются и на тех же основаниях к Божественному началу. Причем существование Божественного начала может утверждаться, только актом веры.
Данте безгранично предан тем ценностям, которые символизируют образ Бога-Отца. Мыслитель создает представление о достойном существовании человека.
«О наш Отец, на небесах живущий!
Не потому, что обитаешь там,
Но потому, что полон всемогущей
Любовью Ты и к смертным существам,
Да предадут смиренно и с любовью
Твое Святое Имя славословью
Все те, кому даруешь бытие» [6].
По мнению Соловьева, существование внешнего мира, как и существование Божественного начала, для рассудка могут быть только как вероятности или условные истины, а безусловно могут утверждаться только верой. С другой стороны, содержание
Божественного начала так же, как и содержание внешней природы, дается опытом. В. С. Соловьев считает, что и в случае объективной реальности, и в случае Божественного начала, опыт дает только психические факты, факты сознания. Объективное значение этих фактов определяется творческим актом веры. Причем при этой вере внутренние данные религиозного опыта познаются как действия познающего Божественного начала, являющегося действительным предметом нашего сознания. Исходя из этого, мыслитель заключает, что философия религии как связная система и синтез религиозных истин может дать познающему субъекту адекватное знание о Божественном начале как безусловном или всеобъемлющем.
Согласно концепции В. С. Соловьева, совокупность религиозного опыта и религиозного мышления составляет содержание религиозного сознания. Причем с объективной стороны это содержание есть откровение Божественного начала как действительного предмета религиозного сознания. Мыслитель считает, что дух человека вообще, а, следовательно, и религиозное сознание не является законченным, готовым фактом, а представляет собой что-то возникающее, совершающееся и совершенствующееся, нечто находящееся в процессе. Следовательно, по Соловьеву, и откровение Божественного начала в этом сознании является постепенным.
По мнению философа, Божественное начало есть действительный предмет религиозного сознания, действующий на это сознание и открывающий в нем свое содержание. В этой связи и религиозное развитие — это процесс положительный и объективный, это реальное взаимодействие Бога и человека — богочеловеческий процесс.
В. С. Соловьев убежден в том, что высшая форма Божественного откровения должна: во-первых, обладать наибольшей свободой от всякой исключительности и односторонности, должна представлять величайшую общность; во-вторых, обладать наибольшим богатством положительного содержания, должна представлять величайшую полноту и «Цельность» (конкретность). В концепции мыслителя оба эти условия соединяются в понятии положительной всеобщности (универсальности), которое противопоставляется отрицательной, формально логической всеобщности, состоящей в отсутствии определенных свойств, особенностей.
Исходя из этого, по Соловьеву, целью универсальной религии является максимум положительного содержания, — «религиозная форма тем выше, чем она богаче, живее и конкретнее. Совершенная религия есть не та, которая во всех одинаково содержится (безразличная основа религии), а та, которая все в себе содержит и всеми обладает (полный религиозный синтез)» [5]. Совершенная религия, по мнению философа, должна быть свободна от всевозможной ограниченности и исключительности «но не потому, чтоб она была лишена всякой положительной особенности и индивидуальности — такая отрицательная свобода есть свобода пустоты, свобода нищего, — а потому, что она заключает в себе все особенности и, следовательно, ни к одной из них исключительно не привязана, всеми обладает и, следовательно, ото всех свободна» [5].
В. С. Соловьев стремится показать, что положительный религиозный синтез, истинная философия религии должна обнимать все содержание религиозного развития, не исключая ни одного положительного элемента, и единство религии следует искать в полноте, а не в безразличии. В концепции мыслителя религия есть воссоединение человека и мира с безусловным и всецелым началом. Поэтому мыслитель указывает на то, что «это начало, как всецелое или всеобъемлющее, ничего не исключает, а потому истинное воссоединение с ним, истинная религия не может исключать, или подавлять, или насильственно подчинять себе какой бы то ни было элемент, какую бы то ни было живую силу в человеке и его в мире» [5].
В концепции В. С. Соловьева воссоединение отдельных существ, частных начал и сил с безусловным началом должно быть свободным. Это значит, что отдельные существа и частные начала по своей воле должны прийти к воссоединению и безусловному согласию, сами должны отказаться от своей исключительности, от своего самоутверждения или эгоизма. И так как безусловное начало вследствие своей сущности не допускает исключительности и насилия, то это воссоединение частных сторон жизни и индивидуальных сил с всецелым началом и между собой должно быть, по Соловьеву безусловно свободным.
У Данте Алигьери представление о мире конструируется спекулятивно умозрительно. Оно определяется не стремлением следовать какой-либо теории, а умением формировать образы, за которыми развивается метафизическая реальность. Поэтом двигало желание построить картину человеческого существования, основанную на высших Божественных этических ценностях. В этом плане Данте отмечал:
«Отчасти лишь все действия земные
Зависимы от неба, свет его
Ниспослан вам на землю для того,
Чтоб доброе от злого отличали.
Свобода воли также вам дана,
И если к ней прибегните вначале —
Все победит влияния она.
Не связаны ничем в своей свободе,
Подчинены лишь лучшей вы природе…» [6].
Данте ставил задачу показать тот неисчерпаемый потенциал, который заложен в душе человека и который может послужить основой конструирования новой этики. Подобное самосознание и ощущение человеком собственной значимости уже белее не является средневековым. Это свидетельствует о том, что Данте уже перешагнул тот рубеж, который отделяет средневековые ценности от гуманизма эпохи Возрождения.
Человек должен глубоко осознать свою сущность, определить масштабы своей личности и осуществить выбор между бренными сиюминутными земными потребностями и высшими ценностями бытия. Можно полностью согласиться с В. В. Сербиненко, отметившим следующее: «… понимание ценности философской мысли, ни при каких обстоятельствах не сводимой к “мнению”, “болтовне” и претендующим на концептуальность идеологическим симулякрам, — это вполне русские мотивы» [14].
Путь к спасению, к осуществлению истинного равенства, истинной свободы и братства, по Соловьеву, лежит через самоотрицание. Согласно концепции русского философа, именно самоотрицание приводит к свободному воссоединению с Божественным началом. И по праву слова В. С. Соловьева могут служить апофеозом того нелегкого творческого пути, который прошли эти два столь несхожих мыслителя: «Для самоотрицания необходимо предварительное самоутверждение: для того чтобы отказаться от своей исключительной воли, необходимо сначала иметь ее; для того чтобы частные начала и силы свободно воссоединились с безусловным началом, они должны прежде отделиться от него, должны стремиться к исключительному господству и безусловному значению. Ибо только реальный опыт, изведанное противоречие, испытанная коренная несостоятельность этого самоутверждения может привести к вольному отречению от него и к сознательному и свободному требованию воссоединения с безусловным началом» [5].
Таким образом можно заключить, что и Данте Алигьери, и Владимир Соловьев в разные исторические эпохи прошли очень сложный путь к утверждению подлинных этических ценностей. Этих мыслителей сближает обоснование метафизических оснований веры. Только Владимир Соловьев обосновывал этические ценности на основе православной традиции, а Данте пытался трансформировать средневековую европейскую этику, воспевая гуманизм и поставив человека выше его греховной природы.
1 Обсценность — в текстах Бодрийяра это слово означает не только «непристойный», но он, также обыгрывает в этом термине еще и слово «сцена», то есть отсутствие сцены и зрителей.