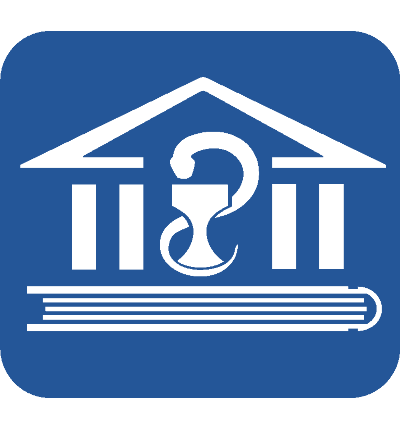
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Религия или научная рациональность: поиск онтологических оснований медицинской этики
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия
Для корреспонденции: Ольга Валерьевна Козлова
ул. Кедрова, д. 8, кв. 10, 150000, г. Ярославль, Россия; ur.liam@7991.avolzokaglo
В современных условиях при господстве рационального мышления особенно важным является осмысление подлинных ценностей медицинской этики. Проблема соотношения религиозных ценностей и достижений научной рациональности интересовала выдающихся мыслителей прошлого и современности. Задача обрести подлинные основания для своего бытия, для принятия правильных решений возникает перед каждым человеком. «Мы все хотим наслаждаться нашей жизнью, пытаемся держать ее под контролем… Каждый пытается сделать свой малый мир надежным и интересным, насколько это возможно. Моя жизнь врача состоит из ежедневного противостояния именно с параллельной действительностью: болью, страданием и смертью», — пишет немецкий пластический хирург Ариэль Нольтце [1].
Представляется актуальным обратиться к творчеству выдающегося мыслителя XIX в. К. Д. Кавелина и рассмотреть его позицию в дискуссии с современными философами. Религиозные ценности и принципы научной рациональности, традиционно противопоставляемые, получают и в философии К. Д. Кавелина, и в концепциях современных философов новое прочтение.
Согласно концепции К. Д. Кавелина, нравственный характер и нравственное развитие человека невозможны без свободы воли, то есть «без возможности, по усмотрению и произволу выбрать тот или другой путь, склониться на то или другое действие, дать своей деятельности то или другое направление» [2]. По мнению мыслителя, внешние обстоятельства могут способствовать или препятствовать исполнению тех или других решений человека. Следовательно, можно вывести, что борьба является постоянным законом нравственной личности. Человек, по Кавелину, постоянно борется с окружающей природой, с самим собой, чтобы достигнуть своих целей, чтобы создать себе достойную среду обитания, соответствующую его целям. На этой почве и вырастает нравственная личность.
Мыслитель убежден в том, что основные цели в жизни человек может определить, опираясь на науку. И именно положительные науки, вращаясь в области явлений и внешних фактов, имеют задачей, во-первых, установить эти явления и факты в их реальной действительности, во-вторых, определить условия, которые сделали эти факты необходимыми и неизбежными. Когда две эти операции совершены, дело науки кончается, так как явление и факт объяснены, отмечает мыслитель. Следовательно, реальные науки имеют дело только с относительными истинами, а в безотносительных, вечных истинах не нуждаются. Поэтому Кавелин приходит к выводу о том, что свобода воли не может быть принята реальными науками на вооружение, так как свобода выбора отвергает необходимость явления. «Если по усмотрению того, кто действует, факт может совершиться так или иначе, и даже вовсе не совершиться, то ясно, что определить его закон нет возможности; реальные же науки, как мы сказали, имеют задачею определить законы явлений» [2].
Герхард Медикус в этом плане отмечает, что там, где нет доверия в отношении эмпирических методов и «ошибающихся чувств», единственными критериями для оценки правдоподобия являются логическая непротиворечивость и собственное мнение ученого. «В этом смысле философы и математики — эксперты в отношении доказательных аргументов и бескомпромиссных требований к достоверности» [3].
К. Д. Кавелин делает вывод о том, что в результате ошибочного применения выводов реальных наук к психической жизни, личность и условия ее деятельности выпадают из господствующих современных представлений: «реальные науки видят в лицах лишь единицы, из которых слагается итог, подлежащий их рассмотрению и объяснению. Итог этот есть явление необходимое, возникающее по определенным законам; стало быть, он не зависит от личной деятельности, и потому нет никакой нужды принимать ее в расчет» [2]. Герхард Медикус в этой связи отмечает, что бессмысленно допускать, что за нашу свободу воли непосредственно отвечают вероятностные процессы на уровне реальности, описываемой квантовой физикой. «Выводы о сознательных процессах на основе квантовой физики сомнительны и могут быть сравнимы с таким же сомнительным актом открытия отделения политической науки в структуре института биохимии» [3].
По мнению К. Д. Кавелина, личность как нравственный деятель в современной жизни сходит со сцены. Личности постепенно превращаются в безличные человеческие единицы, лишенные в своем нравственном существовании точки опоры и поэтому легко заменяются одни другими. При этом достоинство и нравственный характер должны определяться только внешней жизнью и деятельностью в качестве члена государства, общества. А при оценке человека не внутренние мотивы, а степень необходимости для общества должна выдвинуться на первый план и именно внешние привычки должны сделаться меркой человека. Гораздо опаснее другое наваждение, отмечает Каролин Эмке, а именно — атмосфера фанатизма. Она отмечает нарастание угрожающей динамики в мире: фундаментальное отторжение людей, которые по-иному веруют или вовсе не веруют, которые по-другому выглядят — не так, как требует утвержденная в обществе норма. «Это растущее презрение к любому отклонению распространяется и все больше вредит. Потому, что мы, те самые, на кого направлена эта ненависть, обычно с отвращением умолкаем, мы позволяем себя запугать, поскольку не умеем противостоять этой дикости и террору…» [4].
Кавелин убежден в том, что пока нравственные элементы личности будут оставаться в пренебрежении, до тех пор эти взгляды будут все глубже проникать в умы большинства образованных людей. Философ указывает, что именно в современную ему эпоху делается все возможное для удовлетворения потребностей человека, а он все менее становится способен пользоваться этими благами.
Вместе с тем мыслитель отмечает, что выделение человеком себя из всего остального мира и перенесение точки опоры в психическую деятельность должно было уступить место другому положению, в котором центром исследования является не единичный человек, а общество. Мир знания и науки открылся перед человеком благодаря обобщениям, которые стали возможны лишь благодаря общению его с другими людьми. И если человек только в обществе становится способным к развитию и совершенствованию, то на него следует смотреть не как на самостоятельную единицу, а как на составную часть целого. В этой связи Кавелин предостерегает от заблуждения, которое заключается в том, что человека пытаются представить как составную часть организма. «Так как в человеке дифференциация достигает высшего развития, то человек в обществе стоит гораздо самостоятельнее, может достигать гораздо большего, индивидуального развития, чем составные части всякого другого живого организма» [5]. Философ указывает, что идеальный мир выводит человека из тесного круга его личного существования и поднимает его до созерцания всеобщего.
Константино Эспозито, как бы продолжая мысль Кавелина, отмечает, что в реальности нашего сознания есть загадка. Дело в том, что сознание всегда смеется над теми, кто пытается его анализировать. «Поскольку оно уже является частью тех, кто хочет его деконструировать, то деконструкция сознания на самом деле приходится доказательством его существования» [6]. Философ ставит вопрос: какая из реальностей создает сознание? Но при этом необходимо учитывать, что в этот момент человек, задающий вопрос, уже находится внутри сознания. Сознание не зависит от нашей неспособности объяснить его субъективное проявление. Константино Эспозито указывает на то, что тайна сознания относится к чувственной и мыслительной деятельности человека. И можно сказать, что сознание как раз и воплощается в чувствах и мыслях личности.
Отсюда возникает вопрос, который волновал многих мыслителей: откуда у человека возникает свобода воли, если он детерминирован и внешней действительностью, и сознанием? С точки зрения Кавелина свобода воли не является иллюзией, а представляет собой действительное явление. Если исходить из того факта, что все существующее и происходящее в мире является результатом известных условий, а человек — органическая часть природы, то трудно себе представить в человеке силу, создающую явления помимо всяких условий. А между тем, отмечает философ, все непосредственно убеждены в том, что, при известной обстановке, люди самопроизвольно и свободно распоряжаются своими внутренними настроениями и внешними поступками. Многочисленные наблюдения установили различия между свободными действиями и такими действиями, которые обусловлены напором страстей, волнений, боязни. Такое различие не могло быть произведено, если бы в основании душевных состояний не лежала свобода психической деятельности.
Жан-Батист Брене отмечает, в этой связи, что человек тогда должен быть субстанцией, т. е. реальностью полной настолько, насколько это возможно, ни на что не опирающейся, существующей независимо от существования или деятельности других вещей мира. Но человек при рождении такой субстанцией не является. «Его существо — это разум, но вначале разум имеется лишь в потенции, он лишь приготовление, лишь способность к абстрагированию форм, вписанных в материю, и это на первых порах подчиняет его телу, чувствам, воображению. Человек — это субстанция, но лишь ожидающая реализации, как обещание, которое нужно сдержать, как удача, которую нужно испытать…» [7].
П. Я. Чаадаев убежден в том, что связь, соединяющая явления нравственного порядка, та же, какая соединяет физические явления, и это есть непрерывность и преемственность. И именно в действии на человека феномена нравственности Чаадаев усматривает движение к самосовершенствованию. «В области нравственности идут вперед не только ради одного удовольствия двигаться, должна быть и цель; отрицать возможность достичь совершенства, то есть дойти до цели, значило бы — просто сделать движение невозможным» [8]. Мыслитель убежден, что люди являются в мир со смутным инстинктом нравственного блага. Но вполне осознать этот инстинкт можно лишь в более полной идее этики, которая развивается в течение всей жизни.
Поэтому Патриция Черчлент отмечает преимущества культивирования таких добродетелей как сострадание и честность. Если эти добродетели войдут в привычки, то они будут направлять процесс выполнения ограничивающих условий в сторону принятия решений, нравственно приемлемых для человека. Следовательно, будучи закреплены в сознании, эти привычки избавляют мозг от необходимости вычислять и оценивать с нуля все влияющие на выбор факты: «… если вы привыкли проявлять, допустим, доброту и отзывчивость ко всем окружающим, вам не придется тратить время и силы на раздумья, что делать в стандартной повседневной ситуации. Если случится что-то из ряда вон выходящее, условная привычка может сослужить хорошую службу» [9]. Исследовательница отмечает, что системный мозг утилитариста, принимая одно решение за другим, вынужден тратить столько лишних сил на вычисления правильности поступка, что остается лишь гадать, способен ли такой человек вообще принимать решения и хоть что-то довести до конца.
К. Д. Кавелин обращает внимание на то, что несомненная связь между человеком и окружающим его миром, выступающая в развитии знания и науки, не разрешает всех проблем, возникающих в ходе исторического развития. Согласно концепции мыслителя, человек со своим внутренним миром и его тайнами выступает не как продолжение, разъяснение и дополнение окружающего мира, а, напротив, он отрицает его, «спасается от его зол и страданий, в самом себе ищет точки опоры и во имя ее стремится пересоздать весь действительный мир и условия его существования» [5].
Исходя из этого Кавелин ставит вопрос: что значит это противопоставление внутреннего мира внешнему, доходящее до вражды, и почему оно является заключительным актом эпох культур и цивилизаций, а не заявляет себя в самом их начале? По мнению философа, позднее появление протестов во имя внутреннего, душевного, мира против окружающей среды легко объясняется законом дифференциации, одинаково замечаемым в развитии природы и человека. Мыслитель отмечает, что слитное, не различенное в зародыше, является при дальнейшем росте обособленным, иногда до того, что трудно уловить и определить взаимную связь бывших прежде частей одного целого.
В этой связи Майкл Мардер пишет о том, что последствия критики метафизики не являются всецело негативными, учитывая, что контуры жизни, например, растения, становятся видны в результате герменевтического умножения его смыслов, освобожденных от редуктивных тенденций метафизики. Позитивное измерение растительного бытия как следствие критики метафизики ведет к инверсии традиционных ценностей, ставя другого выше себя. «Что еще более важно, оно охватывает ключевые экзистенциальные атрибуты, которые философы, как правило, приберегали лишь для человека» [10]. Майкл Мардер называет свою концепцию «вегетативной экзистенциальностью» и указывает на то, что было бы неправильным настаивать на традиционном метафизическом разделении между душой и телом, ведь это одна из многих дихотомий — себя и другого, глубины и поверхности, жизни и смерти, единого и многого.
К. Д. Кавелин обращает внимание на то, что вся действительная жизнь есть борьба. Все, что существует, начиная с низших организмов и оканчивая высшими, живет одно за счет другого, завоевывая свое существование и постоянно подвергаясь опасности сделаться жертвой окружающего. И именно на человеке, самом развитом и сложном из всех организмов, этот общий закон жизни выражается всего явственнее, указывает философ. Человек непрестанно борется с природой, с подобными себе людьми, с обществом, то побеждая их, то изнемогая перед их превосходящими силами.
В этом плане Жан-Пьер Дюпюи определяет тот факт, что нынешняя дискуссия о вызванном новыми технологиями изменении отношения к природе сводится к тому, что «глубинная экология» представляет природу незыблемым примером равновесия и гармонии.
А человек в результате представляется безответственным и опасным хищником. Поэтому весь проект современного гуманизма состоит в том, чтобы вырвать человека из природы и превратить его во властелина мира и самого себя, указывает Жан-Пьер Дюпюи. «Рассматриваемая метафизика определенно настаивает на своем монизме: сегодня уже не утверждается, что все в мире происходит из одной субстанции, но что все — природа, жизнь, сознание — подчинено общим принципам организации» [11]. Поэтому он приходит к заключению, что девиз «натурализовать сознание» становится целью когнитивных наук. Эти науки должны вернуть сознанию полноправное место в составе природы, заключает Жан-Пьер Дюпюи.
Исходя из этого, возникает вопрос: как ликвидировать противоречие между единством всего существующего и непрерывной борьбой этого существующего с самим собой? Чтобы ответить на этот вопрос, Кавелин прибегает к сопоставлению науки и религии. По мнению философа, задачей науки является знание законов и необходимых условий явлений. А религия ставит на первый план не объективную истину, а напутствие человека к духовной и нравственной жизни. И то, что не подходит этой цели, религия отвергает как вредное, как зло. «Зорко и ревниво оберегая только личное, индивидуальное духовное и нравственное существование, она останавливает попытки знания проникнуть в тайны существования там, где бы они могли поколебать устои личной духовной жизни, высказывает, что эти условия скрыты от человеческого ведения и непостижимы для ума» [5].
Согласно концепции Кавелина, религиозное миросозерцание построено на одной основной мысли — сохранить, направить и воспитать духовно и нравственно человека, дать его душе точку опоры против соблазнов и искушений на жизненном пути. Поэтому философ считает, что всё подгоняется к этой жизненной цели: и разные отрасли искусства, и философия, и формы быта, и общество. Именно в этой заботе об удовлетворении духовных потребностей индивидуального существования личности заключается сила религии и тайна ее огромного влияния на людей.
По мнению К. Д. Кавелина, задачи знания совсем другие и приемы его совсем не те, какие нужны для духовного и нравственного воспитания отдельного человека. Наука исследует не целый предмет в его совокупности, в живой действительности, а одни условия и законы его существования и деятельности, а также обобщает эти законы в общие формулы бытия. Мыслитель отмечает тот факт, что наука всегда начинает с разложения живой действительности на составные части и получает в результате нечто совсем иное, чем была действительность, подвергнутая научному анализу. Результат этот состоит в обнаружении и понимании условий и законов действительной жизни. Оттого-то выводы науки представляют совсем иные комбинации, чем те, которые действительно существуют. Наука дает нам знание того, что есть, но с особенной точки зрения, с известной стороны, которая отвлечена от действительности и совсем иначе комбинируется в нашем уме, заключает Кавелин.
Если принять определение науки как самопреобразующей практики, — пишет Костика Брадатан, — значит сделать себя абсолютно уязвимым. Сравнивая философа с канатоходцем, выступающим без страховки, Костика Брадатан, рассматривает вечное балансирование ученого между приспособлением к требованиям мира и своими собственными этическими принципами. «Поскольку для таких мыслителей философия не просто набор доктрин, о которых вы в принципе можете молчать или отбросить их при необходимости. Это образ жизни, который пронизывает всю вашу биографию, и данный выбор несет весомый экзистенциальный характер» [12].
Возникает новый вопрос: к чему, спрашивается, нам нужны такие новые комбинации и такое преобразование действительности? Роль их, а потому и науки, в действительной жизни громадная. Благодаря новым комбинациям действительности, и только при их помощи, человек получает возможность производить то, что ему полезно и нужно, устранять то, что ему вредно и не нужно, отмечает Кавелин. Философ указывает на то, что до сих пор никто еще не указал, где пределы знания, на каком пункте оно должно остановиться. «Как глыба снега, катящаяся с горы, знание, развиваясь, не только увеличивается в объеме, но расширяет свои средства и вырастает в громадную силу. Но нельзя и не должно требовать от знания того, что оно по своему существу, по своей природе дать не может» [5].
К. Д. Кавелин определяет ум как особый процесс, особое отправление человека, человеческой природы. Ум ничего не создает, а только производит новые комбинации того, что есть, и всегда в виде обобщений. Эти обобщения, по Кавелину, не имеют вне человека никакой реальности, которую долгое время им приписывала философия. Мыслитель считает, что ошибка произошла единственно от того, что ум, как органическое свойство, действует бессознательно, помимо нашей воли и понимания. В этом плане Иэн Таттерсол и Роб Де Салль писали о том, что человеческие существа всегда будут непостижимой загадкой. И вся ирония заключается именно в том, что люди — представители единственного в мире вида, способного на себя оглянуться. Поэтому загадкой они будут исключительно для самих себя. «Наш диковинный когнитивный стиль отделяет нас от остальной природы не только благодаря способности понимать и осваивать мир, в котором мы живем, но и благодаря способности фабриковать редукционистские истории об этом и верить им» [13].
К. Д. Кавелин считает, что мы должны признать, что знание есть не что иное как особый, свойственный лишь человеческому роду способ отношений к окружающему миру и самому себе, служащий ему средством для достижения своих целей. Цель человек носит в самом себе. Она заключается в удовлетворении разнообразных потребностей человека. Мы называем знание средством, отмечает философ, потому что оно, само по себе, в теоретическом, чистом виде представляет сознанию ту же живую действительность, только переиначенную умственным процессом. Поэтому живая действительность остается мертвою, сухою отвлеченностью от истинных оснований бытия.
Продолжая мысль Кавелина, Жан Бодрийяр писал о том, что Вселенная обречена на крайности, а не на равновесие, она обречена на радикальный антагонизм, а не на синтез. Поэтому имеет место антагонизм, выраженный в экстатической форме чистого объекта и в победоносной стратегии этого объекта относительно субъекта. «Мы не будем стремиться к изменению и противопоставлять незыблемое и изменчивое, мы отыщем более изменчивое, чем изменчивость: метаморфозу… Мы не будем отличать истинное от ложного, мы отыщем более ложное, чем сама ложь: иллюзию и кажимость…» [14].
Исходя из этого, Кавелин настаивает на том, что только в различном назначении, роли и задачах религии и науки заключается единственная причина их существенного различия. Религия воспитывает нравственную личность и дает ориентиры медицинской этике, медицине и научному знанию, а наука, рациональное знание, выясняет общие условия действительного бытия и дает орудие для обустройства человеческой жизни.
Таким образом, и религия, и наука подходят к одной и той же задаче с двух различных сторон: религия — с психической, субъективной, нравственной; наука — с внешней, объективной. Их противоположность выделяется только вследствие глубоких недоразумений и неясного понимания их взаимных отношений, круга и границ их деятельности, считает Кавелин. «Назначение религии не есть знание; стало быть, ей, казалось бы, и не след выступать противником и врагом его, к каким бы результатам и выводам оно ни пришло. Точно так же и науке, знанию, не след было бы враждовать против религии, когда назначение ее не нравственное воспитание людей, а открытие общих условий и законов существующего» [5].
К. Д. Кавелин убежден в том, что в обществе, соединяющем в одно целое людей и религиозного, и научного склада, главная задача — найти средние термины их мирного и безобидного сосуществования рядом. Эта цель может быть достигнута, когда причины противоположностей будут поняты обеими сторонами и круг деятельности и тех, и других будет очерчен добровольно. При этом необходимо иметь в виду, что знание и наука на многие вопросы не дают точного ответа; в практическом приложении приходится в таких случаях довольствоваться возможным приближением к недостижимо точному идеалу.
В этом плане идеи выдающегося русского философа К. Д. Кавелина можно рассматривать как духовное завещание современному поколению. И действительно, как точно отметил Ловинк Герт, «нам нужно распространить деконструкцию западного субъекта на нечеловеческую агентность Интернета… Только тогда мы сможем получить более четкое понимание культурной политики» [15]. Ловинк Герт указывает на то, что необходимо найти новый способ мышления, чтобы справиться с отвлечением, который был бы полезен для «постцифровой» эры, который бы признавал, что Интернет никуда не денется и станет не помехой, а помощником духовного развития человека.