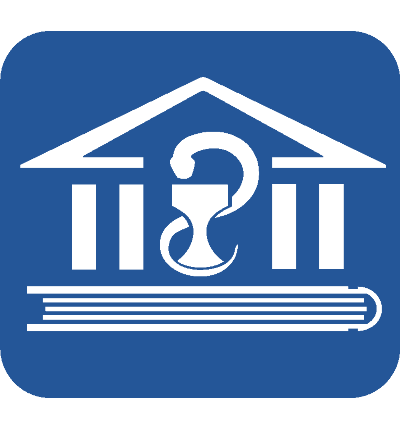
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОБЗОР
Нейроэтика в медицине. Актуальные проблемы
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия
Для корреспонденции: Юлия Сергеевна Филатова
ул. Революцинная, д. 5, г. Ярославль, 150000, Россия; ur.liam@avotalif.s.y
Вклад авторов: Ю. С. Филатова и И. А. Золотова внесли равный вклад в подготовку статьи.
Нейронауки и нейротехнологии стремительно развиваются, в результате чего по-новому раскрываются функции мозга. Нейронаука — это междисциплинарная область науки, изучающая нервную систему, ее структуру, функции и развитие. Она охватывает широкий спектр дисциплин, включая нейробиологию, психологию, молекулярную биологию, медицину и др. Это направление можно отнести к научному подходу, который стремится к систематическому пониманию структуры и функции нервной системы у людей и животных [1]. Нейротехнологии представляют собой набор методов, систем и инструментов, которые обеспечивают прямой доступ к человеческому мозгу. Они позволяют записывать и анализировать активность мозга посредством визуализации нервной системы мозга, технологии нейромодуляции, интерфейса «мозг-машина», а также обеспечивают сбор, хранение и обработку нейронной или связанной с ней информации.
Ожидается, что такие инновационные достижения в области нейробиологии и нейротехнологий приведут к вмешательствам, которые ранее были невозможны в лечении ряда заболеваний человека и укреплении здоровья. Использование достижений нейронаук позволит по-новому рассмотреть взаимосвязь между мыслями, эмоциями и поведением человека. Исследования и разработки в области нейронауки и нейротехнологий приносят значительную пользу обществу и отдельным людям, и для этой цели на национальном уровне делаются крупномасштабные инвестиции [2].
За последнее десятилетие резко возрос интерес к этическим вопросам, возникающим в связи с развитием нейронаук. Новая дисциплина под названием «нейроэтика» появилась только в 2002 г. Она задумывалась как новая область междисциплинарного дискурса о моральных дилеммах, связанных с недавними достижениями в области нейронаук в широком смысле. Спустя почти двадцать лет после своего появления нейроэтика обладает определенным объемом знаний и институциональной базой для дальнейшего развития. Однако, будучи очень молодой дисциплиной, нейроэтика все еще находится в стадии становления [3].
Дискуссия о нейроэтике требует международного сотрудничества. Наиболее заметным глобальным мероприятием в области нейроэтики является консорциум по нейроэтике мозга Глобальной рабочей группы по нейроэтике Международной инициативы по мозгу. Обсуждения в рабочей группе включают укрепление интеграции и сотрудничества между нейронаукой и нейроэтикой, которая постоянно исследуется экспериментально [4].
В связи с непрерывными исследованиями и применением достижений нейробиологии могут возникнуть новые проблемы, связанные с личностью, автономией и защитой конфиденциальной информации. Существующие этические принципы применимы в решении этих проблем, но в некоторых ситуациях могут потребоваться новые этические, правовые и социальные стандарты. Вышеперечисленные проблемы должны решаться в междисциплинарном взаимодействии с участием нейробиологов, практикующих врачей, специалистов по этике, философов, социологов и юристов [5].
Использование нейротехнологий может привести к значительным изменениям в различных областях — от здравоохранения до прав человека. Эти технологии могут адаптировать передвижение людей с параличом, улучшить меры для укрепления психического здоровья и стимулировать экономический рост. Но в то же время они могут создать новые угрозы безопасности и неприкосновенности частной жизни, бросить вызов человеческой автономии и усугубить неравенство. В то время как новые технологии, которые обещают широкие социальные изменения, не новы, связь нейротехнологий с мозгом создает уникальные проблемы, и ученые и политики выявили значительные этические и политические проблемы, связанные с нейротехнологиями [6, 7]
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОЭТИКИ В МЕДИЦИНЕ
Вопросы нейроэтики могут коснуться клинической практики, а именно таких этических аспектов, как взаимоотношения между пациентом и врачом, различия между клинической практикой и исследованиями, важных вопросов принятия решения в лечении некоторых заболеваний и многое другое.
Врачи являются ответственными за следование традиционным принципам клинической практики и медицинской этики в своей области. Клинически ориентированные документы часто предоставляют врачам широкую степень независимости мнения, но вместе с тем ограничивают их действия алгоритмами и стандартами. Так существует ряд заболеваний и состояний в неврологии, требующих вмешательства нейроэтики.
Случай, который, вероятно, является первым опубликованным, был описан Harlow JM на примере пациента Финеаса Гейджа [8]. В результате несчастного случая на работе пациент получил тяжелую черепномозговую травму, затронувшую медиальную и орбитальную области лобной доли, он стал импульсивным, жестоким и грубым человеком. Damasio A [8] предположил, что повреждение вентромедиальной префронтальной коры приводит к потере этических и эмоциональных оценок в отношении моральных последствий действий, что может привести к размыванию границ между добром и злом. Более того, пациенты, у которых было повреждено вентромедиальное префронтальное ядро, не могли корректировать или контролировать агрессивное поведение и/или необычные реакции, сталкиваясь с негативными последствиями своих действий, что причиняло моральный вред им самим и окружающим [9]. По словам Damasio, у этих пациентов нарушена не способность к рассуждению, а эмоции, которые служат соматическими маркерами, используемыми мозгом для быстрой и неосознанной фильтрации вариантов с важными положительными или отрицательными эмоциональными последствиями.
Если случай Финеаса Гейджа подчеркивает важность лобной доли для нравственного поведения, то последующие исследования с участием здоровых людей с использованием нейрофизиологических методов, таких как функциональная магнитно-резонансная томография и неинвазивные методы стимуляции мозга, выявили более широкую и сложную нейронную сеть. Среди этих областей следует упомянуть: поясную извилину коры головного мозга, нервную структуру, которая считается важной для урегулирования конфликта между эмоциональным и рациональным компонентами моральных рассуждений [10]; островок, нервную структуру, имеющую центральное значение в выработке интероцептивных состояний, которая, по-видимому, участвует в выработке аффективного компонента чувства беззакония (это эмоциональная составляющая, связанная с восприятием и переживанием отсутствия законности, компонент включает в себя такие эмоции, как страх, гнев, беспокойство, беспомощность и разочарование, возникающие в ответ на ощущение несправедливости, отсутствия правопорядка или угрозы для личных прав и свобод) [11]; участок мозга, который играет центральную роль в развитии эмоционального компонента чувства беззакония — б азальные ганглии, а также субталамическое ядро, которое участвует в оценке конфликтных ситуаций, связанных с поведением людей, определяемым системой норм и ценностей [12].
Возвращаясь к актуальности клинических моделей в области нейроэтики, следует упомянуть двигательные расстройства, такие как синдром Паркинсона, хорея Гентингтона и синдром Туретта. Эти заболевания характеризуются пониженной чувствительностью к этическим нарушениям — больные не реагируют на моральные или этические проблемы, не осознают их серьезности или не проявляют должной заботы о последствиях своих действий для других. Особенно ярко это заметно в проявлении таких симптомов, как импульсивность в виде резких перепадов настроения, вспышек агрессии с криком, угрозами по отношению к окружающим [13–15]. Кроме того, важную роль играет изучение таких психических синдромов, как обсессивно-компульсивное расстройство [16] и депрессия [17], которые в свою очередь характеризуются высокой чувствительностью к этическим нарушениям, больные проявляют заботу о последствиях своих действий для других. Хотя их основные проявления и механизмы различны, интересно отметить, что все упомянутые выше синдромы сопровождаются схожими анатомо-функциональными изменениями нейронных структур (островковой доли, поясной извилины, базальных ганглиев). Так островковая часть отвечает за интеграцию сенсорной информации и эмоциональных явлений, что позволяет оценивать моральные дилеммы с точки зрения личного опыта и социальных норм, поясная извилина связана с обработкой эмоций и принятием решений, что делает ее важной для оценки моральных последствий, базальные ганглии участвуют в изменении привычек и автоматизации поведения, что также может влиять на моральные нормы, особенно в периодическом взаимодействии и принятии решений. Эти нейронные структуры взаимодействуют друг с другом, создают сложную сеть, позволяющую людям принимать этически обоснованные решения и реагировать на моральные вызовы в социальной среде [18].
Другие важные нейроэтические вопросы касаются последних достижений в области диагностики и лечения расстройств сознания. Это направление быстро расширяется, становится все более актуальным, но при этом остается недостаточно изученным. Современные дебаты, посвященные границам сознания, носят междисциплинарный характер и затрагивают достижения таких наук, как неврология, этика и философия [19].
В клинической неврологии были сформированы подходы к определению уровня сознания. Неврологи, особенно в качестве консультантов, регулярно оценивают уровень сознания пациентов, прогнозируют результаты при потере или снижении уровня сознания, выявляют возможности для восстановления нервной системы и консультируют семьи о том, чего им ожидать и как оптимально подготовиться к возможным результатам. В свою очередь эти оценки и рекомендации формируют доминирующую ось, вокруг которой принимаются важные решения относительно интенсивности и продолжительности ухода, который должен быть оказан пациенту. Оценка степени сознания и способности к выздоровлению играют важную роль в принятии решений об ограничении или продолжении поддерживающего жизнь лечения, что убедительно свидетельствует о том, что сознание является центральным элементом концепции личности [20].
Длительное использование ограниченных ресурсов интенсивной или поддерживающей терапии для пациентов, которые, как считается, не способны к дополнительному неврологическому восстановлению, также может вызывать сложные этические вопросы у медицинских работников [21]. Если рассматривать это с такой точки зрения, то становится очевидной этическая важность четкого понимания того, как подходить к принятию решений о поддерживающей терапии.
Другим важным клиническим направлением, в котором могут быть использованы достижения нейроэтики, — лечение наркотической зависимости. Несмотря на то, что существует ряд медицинских методик лечения, возникает острая необходимость в более эффективных новых методах лечения. Один из многообещающих подходов включает в себя электрическую нейростимуляцию как средство борьбы с зависимостью или так называемые электротерапевтические методы в качестве альтернативы или дополнения к поведенческим и фармакологическим вмешательствам [22].
В последнее время в качестве способа лечения зависимости изучается электрическая нейростимуляция. FDA одобрило два неинвазивных электрических стимулятора нервов для дополнительного лечения симптомов острой отмены опиоидов. Эти устройства, размещенные за ухом, стимулируют определенные черепные нервы. Сообщается, что эта нервная стимуляция дает быстрый эффект с точки зрения облегчения симптомов отмены, возникающих в результате резкого прекращения употребления опиоидов. Современные экспериментальные данные указывают на то, что этот тип неинвазивной нейростимуляции обладает отличным потенциалом для дополнения медикаментозного лечения при детоксикации опиоидами с более низкими побочными эффектами и повышенной приверженностью к лечению. Однако до сих пор не изучен потенциал этого метода и его возможные отдаленные побочные эффекты [23].
Тогда возникает вопрос: какие области мозга, если на них воздействовать, обеспечат наилучший результат при лечении зависимости? Некоторые подсказки в этом отношении можно найти в ряде отчетов о случаях у людей, в которых описывается полное, постоянное и практически безболезненное устранение расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Это устранение было вызвано прямым воздействием на определенные области мозга и нейронные связи, которые, как известно, участвуют в процессе формирования зависимости, такие как островковая доля, прилежащее ядро, дорсолатеральная префронтальная кора и миндалевидное тело [24]. Например, у курильщиков спонтанно пропадал всякий интерес к сигаретам после инсульта, повредившего двустороннюю переднюю островковую долю. Более поздние исследования показывают, что повреждение любой из обширных областей мозга, имеющих функциональную связь с передней островковой долей, также может привести к потере зависимости [25].
Возможность неинвазивной стимуляции этих областей мозга была бы большим подспорьем, но данные виды воздействия в основном ограничиваются поверхностными, а не глубокими областями мозга. Существующие методы неинвазивной нейростимуляции включают транскраниальную стимуляцию постоянным током, транскраниальную стимуляцию переменным током, транскраниальную магнитную стимуляцию и транскраниальную фокусированную ультразвуковую стимуляцию. Эти методы широко использовались на протяжении десятилетий и включают простую подачу напряжения через два или более электродов, размещенных на коже головы, так что ток обычно составляет до 2 мА. Эти методы, и особенно транскраниальная стимуляция постоянным током, использовались именно для лечения зависимости [26]. По-прежнему остается много нерешенных вопросов, касающихся потенциальных методов лечения зависимости с помощью транскраниальной стимуляции. Первый вопрос заключается в том, на какую область воздействовать и какую частоту импульсов использовать. Существуют также этические проблемы: вмешательства, снижающие тягу к наркотикам, могут иметь побочные эффекты, изменяющие волю и способность принимать решения [27]. Побочные эффекты также могут вызывать беспокойство, поскольку инвазивная глубокая стимуляция мозга может привести к мании, расторможенности и психозу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, перспективы использования нейроэтики в медицине очень разнообразны. В большинстве они касаются нейротехнологий, которые важно использовать на благо пациента. Описанные в статье примеры — лишь часть возможных перспектив для обсуждения этических аспектов в достижении нейробиологии, и в большинстве случаев они касаются вопросов о диагностике, лечении ряда неврологических заболеваний и расстройств поведения. Это подчеркивает важность изучения нейроэтики на всех уровнях медицинского образования, включая среднее, высшее и постдипломное.