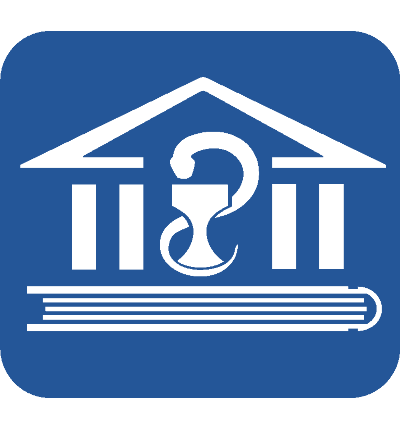
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Космическая биология, космическая медицина и космическая психология в аспекте развития «наук о человеке»
1 Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, Москва, Россия
2 Благотворительный фонд Терешковой, Москва, Россия
3 Институт психологии, социологии и биоэтики, Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль, Россия
Для корреспонденции: Денис Евгеньевич Фирсов
ул. Революционная, д. 5, г. Ярославль, 150000, Россия; ur.liam@076003f
Вклад авторов: все авторы внесли равный вклад в подготовку и написание статьи.
Решение этических вопросов освоения космоса, в связи с интенсивным прогрессом науки и техники, в ХХI в. приобрело характер необходимых задач цивилизационного развития. Решение ЮНЕСКО о расширении полномочий Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологий (COMEST) [1] позволило принять в рамках программы работы на 2024–2025 гг. концептуальную Записку «Об этических соображениях при исследовании и эксплуатации космоса» [2], рассматривающую вопросы рисков, связанных с полетами человека в космос, включая многочисленные формы негативного воздействия космической среды на организм человека, такие как космическая радиация, невесомость, потеря мышечной массы и ухудшение слуха.
В связи с этим определяющее значение для развития космических программ с участием человека имеет прогресс космической биологии, космической медицины и космической психологии. К их задачам относится не только экспериментальное определение адаптивных возможностей человека. В данном аспекте биология, медицина и психология выступают в более широком значении «наук о человеке», исследующих не только его физиологические, но и духовные ресурсы.
В работе И. Б. Ушакова «Космическая медицина и биология: сегодня и завтра» отмечалось, что «биологические эксперименты в космосе в ближайшее десятилетие должны быть направлены прежде всего на решение медико-биологических проблем, связанных с будущими полетами человека в дальний космос» [3].
К числу приоритетных проблем космической биологии И. Б. Ушаков относит:
- клеточные и молекулярные механизмы адаптации к невесомости и реадаптации к земной силе тяжести;
- зависимость структурно-функциональных изменений в организме от длительности пребывания в условиях невесомости, возраста и пола;
- возможные повреждения в организме при сочетанном действии невесомости и повышенных уровней космической радиации;
- биологические эффекты искусственной силы тяжести и длительного пребывания в условиях моделированной гипогравитации (1/6 и 1/3 g) с использованием бортовых центрифуг;
- эффективность новых физических и химических (фармакологических) средств профилактики неблагоприятного влияния невесомости и космической радиации;
- выживаемость и жизнеспособность земных организмов при длительном воздействии на них условий открытого космического пространства;
- технологии культивирования высших растений в условиях невесомости [3].
Первые российские биологические исследования проводились в период изучения стратосферы и рамках ранних авиакосмических разработок. Обоснование во второй половине 1940-х гг. необходимости изучения проблемы полетов человека на ракетных летательных аппаратах инициировало сбор информации о влиянии неблагоприятных факторов полета в эксперименте на животных. На базе института Авиационной медицины и института медико-биологических проблем было исследовано более 50 собак, использованных в полетах на геофизических ракетах, искусственных спутниках земли и космических аппаратах на орбитах 100–450 км [4].
Впервые 3 ноября 1957 г. отечественными исследователями были зарегистрированы переданные с борта искусственного спутника Земли показатели физиологических функций собаки Лайки. В период 1960–1961 гг. отрабатывались средства безопасного возвращения животных на Землю и фиксировались данные о физиологических реакциях животного в условиях длительной невесомости. Полеты в августе 1960 г. Белки и Стрелки, ряд космических экспериментов с животными и биологическими объектами позволили оценить условия пребывания человека на орбите и его благополучного возвращения на Землю [4].
Использование животных в экспериментальных исследованиях стало важным и необходимым этапом в подготовке космического полета человека.
В настоящее время накоплен значительный научный материал, полученный в ходе экспериментов и исследований на млекопитающих (мышах, крысах, обезьянах) и высших растениях в модельных земных условиях и на космических аппаратах различных типов: станции «Салют», «Мир», МКС, биоспутниках «Бион». Исследования касались, в частности, влияния невесомости на физиологические системы организма животных. Полученные результаты показывают, что в большей степени невесомость влияет на мышечную, скелетную, нейросенсорную и сердечно-сосудистую системы. Наблюдаемые многочисленные структурно-функциональные изменения, являются не патологическими, а адаптационными и нормализуются вскоре после окончания полета. Эксперименты на крысах показали, что искусственная гравитация, создаваемая вращением животных во время полета в бортовой центрифуге, может поддерживать функционирование многих систем организма в условиях невесомости на уровне нормы в земных условиях [3].
Развитие космической биологии оказывает существенное влияние на прогресс космической медицины. Как и в области космической биологии, в космической медицине тесно связаны фундаментальные и прикладные исследования, в том числе направленные на получение новых данных о влиянии космоса и космических факторов на живые системы, на решения проблем медицинской безопасности в пилотируемых космических полетах. Таким образом, космическая медицина «является важным элементом практики пилотируемой космонавтики, во многом определяющим состояние и перспективы освоения человеком космического пространства» [3].
В развитии отечественной космической медицины можно выделить несколько этапов [4]. Предшествовали ее формированию исследования в области авиационной физиологии на кафедре авиационной медицины Центрального института усовершенствования врачей (с 1939 г.) и на факультете по подготовке авиационных врачей 2-го Московского медицинского института (с 1940 г.), на базе Научно-исследовательского испытательного института авиационной медицины (с 1949 г.) с применением уникальных стендов и тренажеров.
В 1961–1965 гг., когда на кораблях «Восток-1» — «Восток-6», «Восход» и «Восход-2» исследовались возможности человеческого организма в условиях невесомости до 5 суток, особенности полета в космос женщин-космонавтов, надежность скафандра обеспечить работу человека в открытом космосе. В этот период проводят исследовательскую работу НПО «Энергия», созданное в Институте авиационной медицины космическое управление, Центр подготовки космонавтов, Институт медико-биологических проблем МЗ СССР. Был произведен отбор первых 20 космонавтов, велась подготовка по выработке ими профессионально значимых психологических качеств космонавта. Полет 12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарина продолжительностью 108 минут открыл новую стадию освоения космоса и развития космической медицины:
- полет А. Г. Николаева 11 августа 1962 г. на корабле «Восток-3», первый полет в космос, длительностью 4 суток, впервые космонавт отвязался от кресла и самостоятельно управлял космическим кораблем;
- первый групповой полет В. В. Терешковой 16 июня 1963 г. на борту «Востока-6», первая в мире женщина-космонавт, пилотировавшая космический корабль в одиночку;
- полет В. М. Комарова, К. П. Феоктистова и Б. Б. Егорова в октябре 1964 г.;
- полет П. И. Беляева и А. А. Леонова в марте 1965 г. на космическом корабле «Восход-2», выход А. А. Леонова в открытый космос стали результатом работы в том числе и специалистов по космической медицине.
Второй период связан с дальнейшим развитием космической физиологии и медицины в 1967–1970 гг. в связи с продолжительным пребыванием космонавтов на кораблях «Союз», в длительной невесомости и внешней среде, проведением стыковок космических аппаратов (1969 г.). Полет на космическом корабле «Союз 9» А. Г. Николаева и В. И. Севастьянова в 1970 г. — первый по продолжительности полет — 18 суток. За время полета члены экипажа потеряли около 30% мышечной массы, этот феномен назвали «эффектом Николаева».
Третий период можно отсчитывать от начала в 1971 г. длительных космических полетов на орбитальных научных станциях «Салют», «Мир», «МКС», ставших в настоящее время орбитальными научно-исследовательскими комплексами. В составе экипажей станций находились врачи-исследователи О. Ю. Атьков, В. В. Поляков.
Отечественные и международные экспериментальные проекты позволили провести исследования влияния длительной невесомости на функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обмен веществ, пищеварение и всасывание, на состояние двигательного, зрительного, вестибулярного анализаторов, иммунную систему, состояние костной ткани, способствовали усовершенствованию основ питания и водообеспечения [4].
С вопросами космической биологии и космической медицины тесно связаны исследования в области космической психологии [5]. Уже на первых этапах развития космических программ перед космической психологией стояли вопросы отбора первых космонавтов, рисков длительной изоляции экипажа, конструирования космических кораблей. Большой вклад в развитие отечественной школы космической психологии принадлежит академику РАО, д-ру мед. наук В. А. Пономаренко.
Задачами космической психологии является предупреждение рисков, связанных с влиянием как физических и физиологических факторов: невесомости, перегрузок сенсорной депривации, изменения восприятия времени, так и социально-психологических особенностей взаимодействия членов экипажа как изолированной малой группы. Изучаются вопросы психологической надежности, причин ошибок, связанных с человеческим фактором, анализируется специфика деятельности человека в космическом полете, связанной с повышенной эмоциональной напряженностью, высокой степенью ответственности и психической активности, нагрузками на восприятие, мышление, память.
Разработка методик специальной подготовки космонавта к воздействию перегрузок и других факторов позволила обосновать психофизиологические рекомендации по улучшению надежности контроля за всеми параметрами полета, в том числе с учетом автоматизации большого числа операций и связанных с ней рисков инженерно-психологических дефектов оборудования.
В. А. Пономаренко принадлежит обоснование значения духовности исследователя космоса как ведущего резерва эффективной деятельности в жестких условиях полета. Постижение смысла деятельности в процессе раскрытия одухотворенного профессионального мастерства способствует повышению традиционных способностей и эффективности действий человека в космосе за счет потенциала саморазвития и самосовершенствования [5].
В условиях технологического прогресса современная космическая психология успешно решает задачи психологической подготовки космонавтов для деятельности в сложных профессиональных условиях [5].
Высокая степень длительного воздействия космической радиации во время космических полетов и на поверхности планет (низкая околоземная орбита, Луна, Марс, астероиды и т. д.) ставит вопросы развития технологий, позволяющих свести эти риски к минимуму. Тем не менее в настоящее время исследование космоса возможно преимущественно роботизированными системами.
В данном аспекте, с учетом неизбежного расширения взаимодействия техники и человека особую актуальность приобретают этические вопросы внедрения в исследовательскую практику искусственного интеллекта и иных цифровых технологий, включая, в перспективе, широкое применение во взаимодействии человека и машины нейротехнологий.
На проходившей в период с 9 по 24 ноября 2021 г. 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 193 странами была принята Рекомендация об этических аспектах искусственного интеллекта (Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence) [6].
За исключением непосредственного рассмотрения вопросов применения ИИ в практике освоения космоса, Рекомендация содержит ряд положений, соответствующих целям и задачам космических исследований.
В частности, в Рекомендации отмечается, «что учет рисков и этических аспектов не должен препятствовать инновациям и развитию, а напротив, должен обеспечивать новые потенциальные возможности и стимулировать этичную научно-исследовательскую и инновационную деятельность, способствующую тому, чтобы ИИ-технологии были неразрывно связаны с правами человека и основными свободами, нравственными ценностями и принципами и морально-этическими воззрениями»… «нравственные принципы и ценности могут способствовать выработке и осуществлению мер политики и норм правозащитного характера и выступать в качестве ориентиров с учетом высоких темпов технологического развития».
«5. Цель настоящей Рекомендации — заложить основу, которая позволит использовать ИИ на благо всего человечества, отдельного человека, обществ, окружающей среды и экосистем и не допустить причинения им вреда. Ее цель также состоит в том, чтобы стимулировать использование систем на основе ИИ в мирных целях».
«17. На всех этапах жизненного цикла ИИ-систем следует обеспечивать признание значимой роли окружающей среды и экосистем, их охрану и поощрение их благополучия. Более того, здоровая окружающая среда и экосистемы жизненно необходимы для выживания человечества и других живых существ, а также самой возможности пользоваться благами прогресса в области ИИ».
«25. Необходимо понимать, что сами по себе технологии на основе ИИ не обязательно являются гарантией благополучия человека, окружающей среды и экосистем… следует предусмотреть соответствующие процедуры оценки рисков, а также принять меры по исключению вероятности причинения такого вреда».
«50. Государствам-членам следует ввести рамки для проведения оценок воздействия, в частности, оценок этического воздействия, в целях выявления и анализа преимуществ, проблем и рисков, связанных с применением систем на основе ИИ, а также принятия надлежащих мер по предотвращению, минимизации и отслеживанию таких рисков и создания других гарантийных механизмов».
Ряд вопросов, которые могут касаться сферы применения ИИ в космических исследованиях, рассматриваются в опубликованном в феврале 2024 г. Предварительном проекте рекомендаций об этических аспектах нейротехнологий ЮНЕСКО [7].
«91. Государствам-членам следует совместно разработать четкие и унифицированные руководящие принципы в отношении прав ИС, применимых к нейротехнологиям в международном масштабе. В этих руководящих принципах должны быть учтены вопросы патентоспособности созданных ИИ изобретений и этические последствия законов об ИС, а также обеспечена их направленность на расширение глобального доступа и инновации».
С учетом масштабов медицинских исследований, связанных с участием человека в космических исследованиях, важным является требование «82… разработать надежную нормативно-правовую базу, регулирующую сбор, обработку, обмен и все другие виды использования нейронных и когнитивных биометрических данных. В такой нормативно-правовой базе, как и в уже существующих нормативных актах, должно признаваться, что эти данные являются персональными и конфиденциальными как в медицинском, так и в немедицинском контексте».
Уровню ответственности и долгосрочного планирования при проведении исследований в области применения искусственного интеллекта и нейротехнологий в космической отрасли, несомненно, отвечает вводимая проектом рекомендаций ЮНЕСКО об этических аспектах нейротехнологий категория «научной добросовестности».
«38. Научная добросовестность — это приверженность строгому поиску истины с помощью научно обоснованных, объективных и прозрачных исследовательских методов. Она обеспечивает проведение всех научных исследований в имеющих отношение к нейротехнологиям дисциплинах на основе принципов честности, точности и уважения к научному методу».
Дальнейшее обсуждение вопросов этических аспектов применения технологий ИИ и нейротехнологий в космических исследованиях является задачей специалистов в различных областях технических и гуманитарных знаний, от решения которой в значительной мере зависят перспективы изучения возможностей деятельности человека во Вселенной.
ВЫВОДЫ
Как отмечал российский специалист в области физиологии экстремальных воздействий, академик РАН, д-р мед. наук, профессор И. Б. Ушаков, «у космической медицины и биологии увлекательное будущее, основанное прежде всего на безусловной необходимости ее развития для дальнейшего освоения человеком космоса, в том числе дальнего… Будущая космическая медицина и в дальнейшем будет стремиться работать на опережение… она всегда была и еще больше будет медициной комбинированных воздействий и персонифицированной (индивидуализированной) биомедициной не только по геному человека, но и по его фенотипу. Большое значение в дальнейшем развитии космической медицины будут иметь результаты исследований в области космической биологии» [3].
Развитие космической биологии, космической медицины и космической психологии как наук о человеке определяет уровень объективного планирования перспектив научных исследований и практических задач по освоению ближнего и дальнего космоса с учетом физиологических, психологических и духовных ресурсов человека, его способности к адаптации в новой физической и культурной реальности.